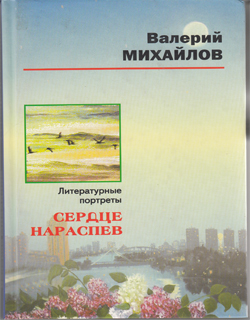Сердце нараспев — Валерий Михайлов – Страница 6
| Название: | Сердце нараспев |
| Автор: | Валерий Михайлов |
| Жанр: | Литература |
| Издательство: | |
| Год: | |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
У любовной лирики Кузнецова есть особенность. Ни одно из стихотворений не посвящено определенной женщине. (Исключение он сделал лишь одной, посвятив несколько стихов младшей дочери Кате, но это, понятно, уже другая любовь-отцовская.) Поэзия — дама не только капризная, но и загадочная, а прекрасный пол, как известно, редко приходит вовремя. Все же я выбираю два стихотворения, помеченные тем годом, когда многое решалось в личной судьбе двух студентов Литинститута...
ВЕТЕР
Кого ты ждешь?.. За окнами темно.
Любить случайно женщине дано.
Ты первому, кто в дом войдет к тебе,
Принадлежать решила, как судьбе.
Который день душа ждала ответа.
Но дверь открылась от порыва ветра.
Ты женщина — а это ветер вольности...
Рассеянный в печали и любви,
Одной рукой он гладил твои волосы,
Другой -топил на море корабли.
1969 г.
ЛЮБОВЬ
Он вошел — старый дом словно ожил.
Ты сидела — рванулась не ты:
Проступили такие черты,
Что лицо на лицо не похоже.
Он еще не забрал, но уже
Ты его поняла по движенью.
То душа прикоснулась к душе,
То звезда зацепилась о землю.
1969 г.
СПИЧКИ-ЭТО ОГНЕОПАСНО
О том, как они поженились, я впервые услышал лет пять назад, от покойного ныне Вадима Валериановича Кожинова.
В своей квартире на Большой Молчановке, заставленной книжными стеллажами до потолка, знаменитый литературный критик и мыслитель вел, как обычно, важный искрометный разговор на историческую тему, потягивая из мундштука непременную «Приму», Потом речь зашла о современной литературе, а как же тут обойти Кузнецова? G Кожиновым мы встречались не впервые, и я решил от старого друга поэта прояснить легенду, которая ходила про Кузнецова, — о прыжке с 6-го этажа общежития. Вадим Валерианович ответил, что поступок сей действительно в пору студенчества имел место быть, но совершен не от отчаяния, а исключительно из молодецкой удали, хотя и сгоряча.
«Кстати, — здесь Кожинов с легким добродушием улыбнулся,-это происшествие впоследствии изменило личную жизнь Юрия Поликарповича».
«Как это?..» — естественно вопросил я.
«В больнице его постоянно навещала сокурсница, красавица по имени Батима. Это было поручение от комсомольской организации.
А после как по писаному: «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним...». Словом, однажды приходит ко мне Юрий Поликарпович и спрашивает: что, дескать, если жена у меня будет казашка? Ну что же,-отвечаю ему, — у Тютчева жена была немка...».
Мы беседуем с Батимой Жумакановной в новом здании Верховного суда России на Поварской, где она работает консультантом. Жена поэта тихо смеется, когда я передаю ей этот давний разговор.
— Никакого комсомольского поручения, конечно, не было… А день, когда с Юрой это произошло, хорошо помню. 9 ноября 1967 года. Я как раз звонила домой, в Семипалатинск. Телефон-автомат в общежитии был на первом этаже. Говорю с сестрой Умитжан… а тут вдруг глухой удар, шум голосов, крики: студент из окна выпал!.. Интересно так!.. Я бросила трубку и на улицу. А это, оказывается, Юра...
Литинститут всегда славился горячими головами и пылкими воображениями. Чего только там не случалось! Вот, например, исчезли как-то со стен общаги портреты классиков литературы. Искали-искали, и все напрасно. Наконец комиссия стучится в комнату Рубцова.
Ответа нет.
Толкнули дверь. В комнате Рубцов, а вокруг приставлены к стенам пропавшие портреты.
— Коля, ты что?!
— Скучно мне. С кем тут еще, кроме них, можно поговорить?..-ответил поэт. И кивнул на Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Лескова.
Между прочим, два самых знаменитых выпускника Л итинститута-Кузнецов и Рубцов обитали в общаге примерно в одни годы. (Хорошо помнит Николая Михайловича и Батима Каукенова. Да не хочет говорить. «Сейчас все о нем вспоминают в печати, особенно те, кто были врагами… А Коля по характеру добрый был...») В своих шутливо-серьезных заметках «Очарованный институт» Юрий Кузнецов пишет:
«В коридорах я иногда видел Николая Рубцова, но не был с ним знаком. Он ходил как тень. Вот все, что я о нем знаю. Наша единственная встреча произошла осенью 1969 года. Я готовил на кухне завтрак, и вдруг — Рубцов. Он возник как тень. Видимо, с утра его мучила жажда. Он подставил под кран пустую бутылку из-под кефира, взглянул на меня и тихо произнес:
— Почему вы со мной не здороваетесь?
Я пожал плечами. Уходя он добавил, притом серьезным голосом:
— Я гений, но я прост с людьми.
Я опять промолчал, а про себя подумал: «Не много ли: два гения на одной кухне?» Он ушел, и больше я его никогда не видел».
В тех же заметках описан и случай, происшедший с ним самим.
«Устав за четыре года от табачного дыма и шума, мы выезжали в Подмосковье. Лес, река, палатка и костер. Тишина!.. Помню, кто-то из нас пошел за водой и по задумчивости зачерпнул лягушку. Мы уселись у огня, предвкушая чай с дымком. Но, как только вода нагрелась, из ведра через наши головы сиганула лягушка. Девчонки в визг, парни в крик. «И-и!», «Какой прыжок!» Всяк кричал свое. Я помалкивал. Прыжок как прыжок. Я знавал и не такой...»
Итак, что же произошло? Обычное студенческое застолье. Приглашены «из города» девицы. Вино, танцы, разговоры. Одну гостью поэт позвал к себе в комнату. Она согласилась. Но далее свидание не заладилось. «Мне даже в голову громом ударило. «Или-или!»- кричу. «А что такое?» — спрашивает она и смеется. Я говорю: «Или я прыгаю из окна!». Она стала, подбочась, и делает ручкой: «Ну так прыгай». Я распахнул окно, вскочил на подоконник и глянул вниз. До земли далековато: шесть этажей. Но отступать было нельзя, и я прыгнул. Конечно, я немного схитрил и прыгнул в сторону — на водосточную трубу, до которой был добрый шаг от окна. Я схватился за водосточную трубу, но не удержался и, обдирая рукава и брюки, стремительно полетел вдоль трубы вниз. На уровне четвертого этажа (я успел это заметить) моя нога застряла в узком промежутке между стеной, скобой и трубою. Я провис так, что моя застрявшая ступня оказалась выше головы. Я не мог выпрямиться. Руки мои разжались, и я полетел вниз головой на асфальт и подвальную решетку. Почему я не разбился, никто не знает. Придя в сознание, я расслышал голоса и уловил какое-то движение, меня подняли, опустили на носилки и впихнули в темноту. Темнота поехала. Во все это время я боялся раскрыть глаза, чтобы не увидеть смерть...
Недели через полторы меня выписали из больницы. Но все же кто меня спас?..»
Через три года на выпускном вечере один из преподавателей, разглядывая Кузнецова, произнес: «Везучий ты парень, гм… Видно, Бог велел, чтоб ты вышел цел».
«Что он хотел этим сказать?.. Что я выпрыгнул из окна,- так я сам же и пострадал, даже женился после этого, чем окончательно довершил падение своего романтизма».
Они поженились через год с небольшим. На все про все, включая свадьбу, было 25 рублей. Еще год оставался до окончания института...
… Мы сидим с Батимой Жумакановной в центре Москвы, пьем чай. Тишина, едва слышно шелестит кондиционер. Здание новое, построенное турками. Тридцать лет с лишним прошло с того времени.
— Кожинов говорил, что в больницу вы каждый день ходили. Правда?
— Ну, многие навещали...
— А что запомнилось?
Молчит. И вдруг, с едва заметной счастливой смущенностью произносит:
— Я спросила: «Тебе что-нибудь принести?». Он сказал: «Принеси спички». Я принесла двадцать коробков.
Улыбается.
— Вот такая всегда была...
Что же, теперь понятно. Спички — это огнеопасно!
«В ТВОЕМ ГОЛОСЕ...»
* * *
Твое тело я высек из света,
Из прохлады, огней и зарниц.
Дал по вздоху свистящего ветра
В обе ямки повыше ключиц.
И прошел на закат, и мой путь
Раздвоил глубоко твою грудь.
1970 г.
* * *
За сияние севера я не отдам
Этих узких очей, рассеченных к вискам.
В твоем голосе мчатся поющие кони,
Твои ноги полны затаенной погони.
И запястья летят по подушкам — без ветра
Разбегаются волосы в стороны света.
А двуострая грудь серебрится...
Так вершина печали двоится.
1970 г.
ВОСТОКУ
Давным-давно судьба перемешала
Твоих сынов и дочерей твоих,
Но та, что спит в долине рук моих,
Спала в бороздке твоего кинжала.
ПРОПИСКА
В 1970-м институт был окончен. Московская одиссея молодой семьи завершалась. Пока учишься, у тебя в паспорте временная прописка, а потом… потом надо выселяться из общежития и покидать столицу. Стоял сентябрь; вот-вот общага наполнится новыми голосами… А между тем, хотя никому вокруг этого еще не было заметно, Батима ожидала ребенка...
Руководил семинаром у Юрия Кузнецова известный поэт Сергей Наровчатов, фронтовик. Он был знаменит не только пронзительными стихами о войне, но и редкой начитанностью. Сергей Сергеевич имел богатейшую, лучшую в Москве личную библиотеку. Он единственный в Литинституте ценил стихи Кузнецова.
На выпускном вечере между ними состоялся короткий разговор.
Вручая диплом ученику, Наровчатов спросил:
«— Куда вы теперь?
— Туда, откуда приехал. Больше деваться некуда.
— Провинция вас погубит. Придумайте что-нибудь, а я вам помогу.»
— Чтобы устроиться на работу в Москве, нужна была хотя бы временная прописка. Как раз освободилось место консультанта по казахской литературе в Союзе писателей СССР. Пока подыскивали человека, какое-то время можно было там поработать. Словом, одна — единственная реальная зацепка. И Юра отправился к Наровчатову… — рассказывает Батима Жумакановна. — Сергей Сергеевич при нем позвонил Леониду Соболеву. Соболев сам пошел к Воронкову, секретарю СП по оргвопросам. И тот внял ходатайствам классиков советской литературы — я стала консультантом, хотя и на время. Никто вокруг не верил, что у нас что-нибудь получится. Ведь, кроме всего прочего, надо было подыскать квартиру, где бы нас прописали. Но я нашла москвичку, которая согласилась помочь. А после просто повезло: из Верховного суда СССР попросили Союз писателей порекомендовать кого-нибудь на должность консультанта по переводам на языки народов Союза. Я знала казахский, киргизский, понимала по-азербайджански, по-туркменски, занималась славянскими языками. Короче, меня взяли...
Глазастые женщины из Верховного суда ничего по ней не заметили, а вот один работник все же «раскусил» ее.
— Не надо девчонку брать! — сказал кадровичкам.
— Но почему?
— Не видите, что ли? Она же беременна.
Но ему не поверили… Дочь Аня родилась в декабре. Лишь два месяца побыла с нею дома молодая мать — и на работу.
— До-о-лго мне этого не прощали, — говорит Батима Жумакановна. — Да и сейчас помнят, хотя прошло 30 лет.
В 1972-м от Верховного суда ей дали комнату в коммуналке.
А через пять лет уже Кузнецов получил квартиру от Союза писателей. К тому времени у него в Москве вышло две книги стихов и он прославился. И не только как поэт. Однажды ему дали слово на писательском съезде, ибо готовили в секретари, то бишь в литературное начальство. Однако Юрий Поликарпович, по своему обычаю, высказал прямо, что он думает о литературе в целом и о ее творцах в частности. Вызвал бурю негодования и восторга. «Что вы сделали?- сказал потом Наровчатов своему бывшему ученику,- За пятнадцать минут своей речи вы приобрели столько врагов, сколько другому не приобрести за всю жизнь». Понятно, секретарем он не стал...
В 1977-м, когда давали жилье, а было оно самое обычное, Кузнецову сказали: подожди полгода, и получишь квартиру в писательском доме. На что поэт отрезал: «Жить с писателями? Ни за что!».
Так они и обитают в своей тесноватой квартире на Олимпийском проспекте. Но зато не замела поэта «густопсовая пыль Краснодара».
… А про историю с пропиской, когда Наровчатов попросил «придумать что-нибудь», в заметке Кузнецова всего одна фраза:
«Придумала моя жена, он дал первотолчок — и завертелась фантастическая ситуация, в результате которой мы стали москвичами».
В прошлом году литературная Москва отмечала 60-летие Юрия Кузнецова- «первого поэта России». Критик Владимир Бондаренко, осмысливая его путь, писал: «Ощущение трагичности обострилось в Москве, в буреломе событий, в жизни на пределе. Как бы ни любил поэт родную Кубань, как бы ни клялся ей в верности, но, думаю, не было бы той Москвы 60-х, 70-х годов, не было бы Кубы с острым предчувствием атомной войны, не было бы и соприкосновения Юрия Кузнецова с тем Олимпом, на который он оказался вознесен. Был бы обыкновенный традиционный неплохой поэт, не более».
Но у судьбы нет сослагательного наклонения. Как оно было, так и должно было быть.
ЗЕМНАЯ ТЯГА
Что такое быть женою поэта, знает только жена поэта. Будем ли мы лезть к ней в душу? Конечно, нет. Это неприлично и бессмысленно.
Первое, надеюсь, еще понятно, хотя нынешний век, преуспевший в зомбировании, велит считать неприличным лишь непродажное. Второе… слава Богу, жизнь человеческая защищена невидимой броней. Душа, по счастью, неподглядна и неподслушна. Более того, она неразглашаема вполне. Даже самим человеком...
«По суровой требовательности Кузнецова и к себе, и как-то ко всем нам быть с ним повседневно не так уж и легко. А думаешь о нем часто и всерьез. Да, это суровый человек, с тяжелой правдой, и ухватившийся в творчестве прямо за земную тягу. Как он мог разменивать это на гладкость быта? Такова судьба всего существенного; отсюда и нелегкая судьба взявших на себя его, Кузнецова, повседневность»,- говорит в юбилейных заметках писатель Сергей Небольсин.
Повседневность… Это тридцать лет совместной жизни Батимы Жумакановны и Юрия Поликарповича. Я об этом ничего не спрашивал… Только поинтересовался: какие стихи Кузнецова ей нравятся? И сразу же услышал: «Петрарка», «Четыреста», «Отцу космонавта», «Европа», «Федора», «Кубанка», поэма «Путь Христа» (над ней поэт продолжает работу)… Это, и сам голос,-сказали мне многое.
….Однажды я шел на Поварскую, в Верховный суд, от Смоленской по Арбату и увидел напротив Дома-музея Пушкина новый памятник. В прошлом году его еще не было. Карамельно-красивые, молодые, в бронзе, Александр Сергеевич и Наталия Николаевна смотрели через дорогу то ли на отреставрированный дом, где они провели первые после венчания месяцы, то ли на толпу прохожих и лотки, где торгуют живописными помалевками, генеральскими мундирами, сувенирной дребеденью, боевыми орденами. Грустная картина… И зачем он, этот памятник? Чтобы еще теснее валили по Арбату туристы?..
Перелистаем лучше книги. Поэзия — это душа жизни. А лирика-это душа поэта. Одновременно и неизменная, и непрестанно меняющаяся, как сама жизнь. Что сказали стихи — того и достаточно. Другого не надо знать.
* * *
Что тебе до семейных измен?
Что тебе до разорванных звеньев?
Что тебе до обрушенных стен?
Что тебе до летящих каменьев?
Горный воздух так чист и глубок,
И леса обступают огулом.
Посмотри на бегущий поток,
Он живет своей силой и гулом.
Он поток. Он ломает хребты
И летящих камней не боится.
Он зажмет им орущие рты,
Он обточит им грубые лица.
Он шумит про свое и ничье,
Он уходит в открытое море,
Где купается имя твое
И гуляет душа на просторе.
1980 г.
* * *
ДОЧЕРИ КАТЕ
О чем ты задумалась, девочка?
— О бабочках и цветах.
Чего же ты плачешь, милая?
— А плачу я просто так.
Не знает она, что бабочки
Всегда на огонь летят,
И розами зла усеяна
Дороженька на закат.
ВБЛИЗИ ЧИНГИССКИХ ГОР.
И отец, и мать Батимы Жумакановны родом из Абайского района. Там, в ныне печально известном селе Кайнар, школьницей она и гостила каждое лето у родни. Благословенная степь, простор, Чингисские горы!.. Сельская малышня сразу сбегалась посмотреть на городскую девочку, дочь «длинноволосой Дины». Больше всего Бати му удивляла ранняя самостоятельность ребятишек. Дети умели все: с пяти утра доят коров, кормят скотину, подметают… А как сделают все по дому—в горы.
— Помню дядин мотоцикл с коляской, облепленный кучей ребятни. Как только уместилось столько народу! Отвез он нас всех к подножию горы и уехал. Целый день собирали дикий лук, ягоды. Черная смородина крупная, с детский кулачок… Кто тогда думал, что совсем рядом взрывают атомные бомбы и есть ничего нельзя?.. Потом сидим где-нибудь у ручья в тенечке — и мальчишки заводят страшные истории. лро волков и тигров, живущих в этих горах, девочки-малышки жмутся друг к другу. Нет уже на свете никого из них, хотя моложе меня были, — умерли от белокровия...
В июле 1974 года Батима повезла мужа на свою родину. Он впервые оказался на казахской земле. Встречал отец, Жумакан, матери уже одиннадцать лет как не было в живых.
— Собралось человек семьдесят родни. Ну, Юру прямо как царя принимали, — рассказывает Батима Жумакановна. — Неделю гостили, съездили в Абайский район… Понравилось! Юра вообще моего папу обожал. Бывало, услышит, что я ворчу: «Нет, нет, нет! Никакой критики! Очень хороший человек, хорошо воспитал детей. На Абая похож.,.». В 1990 году у него вышла большая книга переводов «Пересаженные цветы», какие замечательные там переложения с сербохорватского, финского, словацкого, других языков!.. А впоследствии и Абая великолепно перевел на русский...
Однажды, в разговоре со мной, Кузнецов припомнил другую поездку в Казахстан: «Под Карагандой это было. Ехали куда-то на машине, долго. Ну, вышли. Подышать, освежиться. И — степь, ровная, широкая. У нас на Кубани такой нет, у нас холмы. Великий простор — и купол неба! — поэт раскинул руки и округлил их над головой.- Что-то космическое! Я такого нигде никогда не видел...».
Кажется, я понимаю, что восхитило Кузнецова. Он увидел нечто, соразмерное себе. Тому, что всегда ощущал в своей душе и что дало такой размах его поэзии. Потому души великанов, Абая и Кузнецова, не могло не притянуть друг к другу в поэтическом космосе. А первым толчком к этому сближению, наверное, стала поездка с женой на землю Абая.
Кстати говоря, переводы Юрия Кузнецова из Абая печатались в «Казахстанской правде», в двух августовских номерах 1995 года.
СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
Батима Каукенова говорит:
— В нашей семье счастливое число — единица. 11 февраля родился Юра. 1 сентября я появилась на свет. 11 января мы поженились. 11 декабря родилась дочь Аня. 1 апреля родилась дочь Катя.
У него диплом № 1 лауреата Госпремии России 1991 года (№ 2 — у Солженицына)...
Что тут добавить? Все сходится. По общему признанию, Кузнецов — первый поэт России. Еще в 1990 году Вадим Кожинов писал, что он «наиболее значительный, самый выдающийся поэт нашего времени, сопоставимый с поэтами-классиками». Сама героиня этого очерка — первая (и единственная) жена Юрия Поликарповича.
И последнее. Основа поэтики Кузнецова — многозначный символ, а многие его стихи, начиная со знаменитой «Атомной сказки», называют пророческими. Но и в жизни он окружен символами. Само имя женщины, с которой он связал судьбу, символ. Фатимой звали жену пророка Мухаммеда. Звука «ф» в казахском языке нет, его заменяют согласные «п» или «б». Разумеется, никаких прямых аналогий между основателем мировой религии и поэтом я не провожу (хотя Коран, как и Библия, писан стихами). Но все же… все же… Именно женщина по имени Батима стала женой русского пророка.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Серебряная свадьба в январе
Луна и снег блестят.
И серебрятся
Уже навеки волосы твои.
А черные до пят — мне только снятся,
Их шум напоминает о любви.
Про эти сны, про этот шум потери
Я расскажу тебе когда-нибудь.
Покуда гости не толкнулись в двери,
Я все забыл — и свой увидел путь.
Садился шар. Заря в лицо мне била.
Ты шла за мной по склону бытия,
Ты шла в тени и гордо говорила
На тень мою: — Вот родина моя!
И волосы от страха прижимала,
Чтоб не рвались на твой родной
Восток.
Ты ничего в стихах не понимала,
Как меж страниц заложенный цветок.
Хотя мы целоваться перестали
И говорить счастливые слова,
Но дети вдруг у нас повырастали
Красивые, как дикая трава.
Над нами туча демонов носилась.
Ты плакала на золотой горе.
Не помни зла.
Оно преобразилось,
Оно теперь как чернь на серебре.
1994 г.
2002 г.