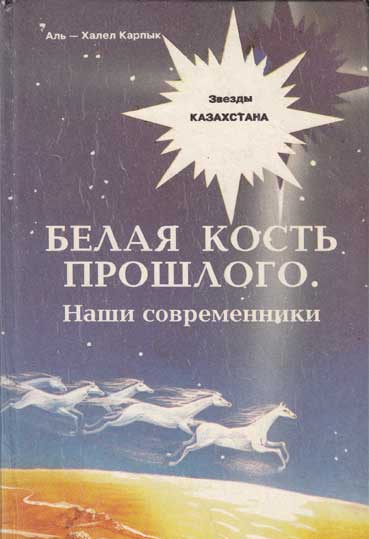Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 11
| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |
| Автор: | Аль - Халел Карпык |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1994 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
ПОТОМОК ХАНОВ И СУЛТАНОВ ЧОКАН ВАЛИХАНОВ
Султан Чингис, как и велось испокон веков в Степи, познакомил в свое время Чокана с его родословной. И это знакомство наполнило мальчика гордостью. Было от чего закружиться юной головке... Первым, из-за темной дымки веков, на Чокана грозно и ласково смотрел знаменитый завоеватель Чингиз-хан... Ближе к начинающему исследователю дымка рассеивалась, становилась светлее... Джучи-хан... Урус-хан... Куюрчук-хан... Общий предок правителей всех трех казахских жузов Барак-хан... Есим-хан с его сводом законов «Древняя дорога хана Есима»... Абылай-хан... Уали-хан... Чингис-султан... Целая галерея правителей, оказавших то или иное влияние на Великую Степь.
Изучив свою родословную, молодой исследователь принялся за родословную казахов вообще. И это был не праздный интерес. Это была пора первых, счастливых открытий, пора первоначального накопления научного материала. Чокан зорко всматривался в прошлое и настоящее, но, по свидетельствам современников, больше интересовался будущим. Как сделать его для соплеменников лучшим по сравнению с прошлым и настоящим? Вот что занимало любознательный ум, вот куда устремлялись помыслы Чокана.
Как много успел за свою короткую жизнь замечательный просветитель, ученый и путешественник! Казахстан по праву почитает Чокана Валиханова как одного из первых своих ученых и просветителей и первого революционного мыслителя, художника.
Драматично и опасно складывалось путешествие Валиханова в торговом караване в Кашгарию—западные владения Китая. На всем пути караван подвергался нападениям разбойников и поборам местных начальников. Зато и открытия молодого поручика русской армии и потомка казахских ханов и султанов были блистательными. Они возвели его в ранг одного из выдающихся географов мира. Перу Чокана Валиханова принадлежат ставшие знаменитыми труды по этнографии, истории, географии, социологии, экономике Казахстана, записи казахского фольклора, открытие для науки выдающегося киргизского эпоса «Манас».
Чокан повторяет линию своих предков — известных казахских правителей на неуклонное углубление взаимоотношений с Россией, но делает это по-своему. Он повел свой народ в сторону России и других цивилизованных стран не путем войн, политических интриг, а путем Знания. Он собирался рассказать России и всему просвещенному миру о жизни казахов, их сокровенных чаяниях, помыслах и надеждах. Открыть другим народам свой народ и сдружить их. В этом непреходящее значение непродолжительной по времени, но яркой и многогранной деятельности Чокана. В этом он — новатор по сравнению со своими предками.
По Чокану, во времена не столь отдаленные от нас Степь стала пристанищем разноплеменного, свободолюбивого народа. От слов «вольный человек» и выводит ученый имя народа «казах». Это была гипотиза молодого ученого, подтвержденная позднее источниками.
Валиханов тщательно восстанавливал генеалогию казахских торе и ходжей, называвших себя белой костью, и простого народа — «черной» кости. Тщательно анализировал все связанные с этим факты.
В чем Валиханов был преемственен? В своем заступничестве за Великую Степь перед Великой Россией, но опять-таки по своему — сугубо мирным путем. Каким именно? По мнению Федора Достоевского, Валиханов должен был написать о казахах «вроде Джона Теннера». А Джон Теннер, как известно, в своих произведениях указывал на рабство негров посреди богатства, свободы и образованности Америки. Великий русский писатель еще только советовал, а большой казахский публицист уже становился казахским Теннером, ходатаем за Степь и всю Азию перед Россией. Впрочем, Валиханов сравнивается с Теннером в учебных целях, он оставался в своих сочинениях Валихановым, ни на кого не похожим и своеобразным.
В записках о своих земляках Чокан блестяще опрокидывал предвзятые представления о кочевниках как о ордах свирепых дикарей. Валиханов убежденно говорил о высокой поэтичности казахов, наличии у них древней культуры, с которой народ не расставался и в самые тяжкие годины и которую сумел уберечь, несмотря ни на что. Чокан увлеченно записывал удивительные степные сказания и песни, различные варианты поэмы о Козы-Корпеш и Баян-Слу, к которой проявлял большой интерес Пушкин.
Валиханов повествовал об оригинальном уме, неистребимых доброте и нравственности степняков. Он не унижался просьбами обратить внимание «на своих», а укорял великороссов за пренебрежительное нежелание изучать своих казахских и среднеазиатских соседей. В очерках Валиханова о казахах неразрывно слиты глубокий ученый и пламенный публицист.
Валиханов гневно протестовал против введения в Степи телесных наказаний, доказывая, что у казахов его не было. При этом ему приходилось выдерживать яростную борьбу с такими непримиримыми оппонентами и представителями царских властей, как Яценко и другие.
Да, с одними русскими Чокан энергично боролся, с другими был нежен и дружественен. Известно, как по-человечески горячо и нежно любили друг друга Валиханов и Достоевский; какие доверительные отношения связывали Чокана с Колпаковским; как крепка была дружба Валиханова с Потаниным. Сейчас можно искать и находить напряженность в отношениях казахов и казаков. В связи с этим вспоминается эпизод. Как-то в Омске, на одной из встреч известный астроном Струве заговорил о мнимой ненависти между казахами и казаками. Чокан поднялся, улыбаясь находящемуся рядом Потанину, и сказал, что он поднимает бокал и целует своего друга-казака. И с этим исполнил сказанное.
Что примечательно, Чокан Валиханов завершал свой жизненный путь в год, когда казахи всех трех жузов завершали свое вхождение в состав России и одновременно — воссоединение в один большой, перспективный во всех отношениях народ. Чокан по праву мог бы сказать, хотя и не сказал и никогда не сказал бы, что в этих исторических свершениях есть и его вклад. Об этом сказали другие. Известны слова профессора Н. И. Веселовского об ожидании от потомка казахских ханов и султанов и русского офицера великих и важных откровений о судьбе тюркских народов. К несчастью, преждевременная смерть Чокана отняла эти чаяния.
В кратких, но точных и выверенных словах отзывается о Валиханове и Национальная академия наук республики: «Шо-кан Шингисович Валиханов — выдающийся казахский ученый, просветитель-демократ. Большое влияние на формирование его мировоззрения оказали русский писатель с мировым именем Ф. М. Достоевский, революционер-разночинец С. Ф. Дуров, известный географ П. П. Семенов-Тян-Шанский.
Шокан вошел в мировую науку как исследователь истории и культуры Семиречья и Киргизии, Восточного Туркестана. Немало личного мужества потребовало его путешествие в Кашгарию. Работы «Очерки Джунгарии», «О состоянии Алтын-шара», «О западном крае китайской империи» и другие поставили Шокана Валиханова в один ряд с выдающимися путешественниками и исследователями Европы и Азии.
Шокан глубоко изучил древнюю и средневековую историю, духовную и материальную культуру народов Востока. Признанием научных заслуг Валиханова явилось избрание его действительным членом Российского географического общества.
Научные труды Шокана Валиханова по истории, этнографии, культуре, географии, праву, религии тюркских и монгольских народов явились важным вкладом не только в русское, но и в мировое востоковедение.»
Все это вместил в себя «метеор» за время, пока успел промелькнуть!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДИНАСТИИ АБУЛХАИР-ХАНА КОМПОЗИТОР ДАУЛЕТКЕРЕЙ
Два близких нам по времени и самых влиятельных казахских хана — Абылай и Абулхаир оставили славное потомство. О внуке Абылая хане Кенесары Грозном и правнуке Абылая ученом Чокане Валиханове уже рассказано. Посвятим очерк и представителю замечательной династии Абулхаира — известному композитору Даулеткерею Шигаеву, которого в народе звали просто — Даулеткерей.
Музыкальное наследие этого талантливейшего композитора вошло в золотой фонд казахского искусства. Многие из нас заслушивались кюями «Жельдирме» («Рысцой») и «Бул-бул» («Соловей»), Сам Даулеткерей был таким Соловьем, которым заслушивалась вся Степь. Но композитору были подвластны не только сладкогласные и чарующие звуки. Потомок степных аристократов, Даулеткерей всегда был на стороне простого народа, когда видел, каким притеснениям он подвергается. Негодованием наполнен, к примеру, кюй «Кара-ходжа», «посвященный» угнетателю простых людей Караул-ходже. Творчество Даулеткерея, то исполненное проникновенной лиричности, то протеста против угнетателей «Черни», всегда было и продолжает оставаться народным.
Даулеткерей был образованным для своего времени человеком. Кстати, родился он в 1821 году. Хорошо знал русский язык. Великолепно играл на гитаре и балалайке, имел богатую коллекцию музыкальных инструментов. Что касается домбры, то мало рождалось на казахской земле домбристов, так же, как Даулеткерей, владевших этим древним инструментом.
Даулеткерей на всю жизнь сохранил любознательность. Уже в пожилом возрасте он побывал в Петербурге, где с интересом знакомился с культурой и общественной жизнью российской столицы. Все увиденное и услышанное позже переплавлялось в кюи. Творчество казахского композитора девятнадцатого века Даулеткерея и ныне высокочтимо и любимо всем казахским народом.
ЧИНГИЗИД АЛИХАН БУКЕЙХАНОВ
Прямой потомок чингизидов, Алихан Букейханов стал лидером казахского народа не по высокому своему происхождению, а благодаря колоссальной работе и длительной борьбе. Как видный ученый-экономист, руководитель казахской конституционно-демократической партии и общенационального движения казахского народа конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, Букейханов оказывал гигантское влияние на весь ход общественно-политической жизни в Казахстане. А. Букейханов смотрел далеко и ясно видел политическую перспективу. По его убеждению, оно было для Казахстана рядом с Россией, большим ближайшим соседом.
Один из видных деятелей русской кадетской партии и санкт-петербургской масонской ложи «Полярная звезда», Букейханов добивался для Казахстана образования самоуправляемой автономности со своим парламентом, правом управлять финансами и прочими атрибутами самостоятельной государственности. В создании же собственной обособленной государственности, если русское правительство позволит пойти на сувере-нитизацию, Алихан видел смертельную опасность для своего народа. Чем были вызваны подобные тревоги и опасения лидера казахов и почему он столь решительно склонялся в пользу российского варианта?.. Вполне возможно, Букейханов и не считал автономное пребывание Казахстана в составе России идеалом для первого. Более того, уверен, он не заблуждался на этот счет, зная колонизаторские устремления российских властей. Но хорошо знал Алихан и другое: в кругу других колонизаторов, зарящихся на казахские земли, Россия была, если можно так выразиться, самой лояльной и мягкой. В случае отказа от российского варианта, Казахстану грозит альтернативный и куда более устрашающий вариант захвата его другим великим соседом — Китаем, предостерегал Букейханов, и этот другой сосед настроен гораздо агрессивнее и жестче. Эти взгляды Алихана способны были убедить любого здравомыслящего человека. Возможно, они не потеряли и еще долго не потеряют актуальности. Казахский лидер той поры глубоко и четко видел политические реалии и перспективу, не обольщаясь насчет «дружбы» слабого с сильным при непомерных аппетитах и амбициях последнего. Полагаю, со временем Букейханов пришел бы к мысли и о полном суверенитете Казахстана, но подразумевал этот шаг как второй, после автономиза-ции, этап, когда казахское государство окрепнет экономически и политически и обретет крепких союзников.
Отношение Букейханова к царскому самодержавию? Как яркий представитель русской кадетской партии и масонской ложи, Алихан видел важную цель в свержении самодержавия и захвате политической власти. Какая реальная сила могла, по убеждению Букейханова, победить самодержавие? Масонство, и только масонство.
Отношение Алихана к большевикам? Это были непримиримые идейные противники казахского лидера и его русских единомышленников. В то же время, на каком-то этапе Букейханов готов был если не активно, то хотя бы пассивно принять большевиков, поскольку они в целом поддерживали его основную задачу на образование Казахской автономии. Однако деятельное сотрудничество с большевиками было неприемлемо для казахского лидера, резко осуждавшего методы ведения ими политической борьбы. Естественно, большевики с их непримиримостью к «врагам» народа не могли простить Букейханову отказа от активной государственной и политической деятельности в пользу коммунистической идеи. Алихан подвергся репрессиям и в итоге был приговорен к высшей мере наказания. Так ушел из жизни чингизид Алихан Букейханов, ложно названный врагом народа и бывший самым большим его другом.
Все познается в сравнении. Невольно возникает вопрос: «А каковы были взаимоотношения лучших представителей белой кости с «чернью» в прошлом у других народов? Обратимся за примерами к «Избранным жизнеописаниям» Плутарха.
«Когда важнейшие из его законов успели войти в жизнь его сограждан, когда государство сделалось достаточно крепким и сильным, чтобы нести себя и самому стоять на ногах, Ликург, подобно богу, который, по словам Платона, обрадовался при виде первых движений созданного им мира, был восхищен, очарован красотой и величием созданных им законов, ставших действительностью, вошедших в жизнь, и захотел, насколько может ум человека, сделать их бессмертными, незыблемыми в будущем. Итак, он созвал всех граждан на Народное собрание и сказал, что данное им государственное устройство во всех отношениях приведено в порядок и может служить к счастью и славе их города, но что самое важное, самое главное он может открыть им тогда, когда вопросит оракул. Они должны были хранить данные им законы, ничего не изменяя, строго держать их до его возвращения из Дельф. После своего приезда он обещал устроить все согласно воле оракула. Все согласились и просили его ехать. Тоща, взяв клятву с царей и старейшин, затем со всех граждан в том, что они будут твердо держаться существующего правления, пока он не вернется из Дельф, Ликург уехал в Дельфы. Войдя в храм и принесши богу жертву, он вопросил его, хороши ли его законы и в достаточной ли мере служат к счастью и нравственному совершенствованию его сограждан. Оракул отвечал, что его законы прекрасны и что с его стороны государство его будет находиться на верху славы, пока останется верным данному им государственному устройству. Он записал этот оракул и послал его в Спарту, сам же принес богу вторичную жертву, простился со своими друзьями и сыном и решил добровольно умереть, чтобы не освобождать своих сограждан от данной ими клятвы. Он был в таких годах, когда можно еще жить, но также хорошо и умереть тем, кто не прочь от этого, в особенности ему, чьи желания были исполнены. Он уморил себя голодом в убеждении, что и смерть общественного деятеля должна быть полезна государству и что самый конец его жизни должен быть не случайностью, а своего рода нравственным подвигом, что он совершил прекраснейшее дело, что кончина его будет стражем всего того высокого и прекрасного, которое он приобрел для сограждан своей жизнью, так как они поклялись держаться установленного им правления вплоть до его возвращения. Он не обманулся в своих надеждах. В продолжение пяти веков, пока Спарта оставалась верна законам Ликурга, она по своему строю и славе была первым государством в Греции. Из четырнадцати царей, от Ликурга до Агида, сына Архидама, ни один не сделал в них никаких перемен.
... И все же Ликург не стремился главным образом к тому, чтобы поставить свое государство во главе других, напротив, он думал, что жизнь отдельного человека, как и жизнь государства, может быть счастлива только тогда, когда он чист нравственно и в мире с самим собою. Поэтому все его действия и поступки клонились к одной цели — чтобы его сограждане были как можно долее свободны нравственно, довольны собой и благоразумны.
Его государственное устройство взял за основание и написавший свод законов для своего собственного государства Платон, так же, как Диоген, Зенон и вообще все занимавшиеся подобного рода вопросами и заслужившие себе похвалу, хотя они оставили после себя одни буквы и слова. Но Ликург не нуждался ни в буквах, ни в словах, — он произвел на свет действительное и неподражаемое государственное устройство и в то время, как другие считают существование истинного философа чем-то идеальным, сделал из своих сограждан целый город философов. Его слава справедливо превышает славу всех когда-либо существовавших греческих законодателей, вследствие чего и Аристотель заметил, что «Ликурга в Спарте чтят меньше, чем он заслужил», хотя ему и оказывают здесь величайшие почести. Ему построили храм и ежегодно приносили жертву как богу. Говорят, когда его прах был привезен на родину, молния упала на его гроб, чего не случалось впоследствии ни с кем из великих людей, кроме Еврипида, скончавшегося и погребенного близ Аретузы, в Македонии. Это может оправдывать в глазах других — поклонников Еврипида и служить для них доказательством, что одному ему выпало на долю то, что задолго до него случилось с самым любимым богами и святым по жизни человеком...
... По словам Аристократа, сына Гиппарха, когда Ликург умер на Крите, его друзья сожгли его труп и, по его завещанию, бросили пепел в море: он боялся, что его останки перенесут в Спарту, вследствие чего спартанцы сочтут себя свободными от клятвы и сделают перемены в данном им государственном устройстве под предлогом того, что он вернулся на родину...»
Ликург, правитель, любивший свой народ, любимый им и самой своей кончиной старавшийся послужить его благу... Этот пример великолепно соотносится не только с древностью, но и с настоящим. Давайте спросим себя: много ли у нас найдется правителей, готовых уморить себя голодом, подобно Ликургу, чтобы лучше жилось народу. Очевидно, гораздо больше найдется правителей, которые скорее уморят голодом свой народ, чтобы лучше жилось им самим, правителям. Правда, и народ не окружает последних, как Ликурга, уважением и почетом.
НАШИ ИЗВЕСТНЫЕ СОВРЕМЕННИКИ
АБАЙ
«У Абая в одном слове больше смысла, чем у некоторых поэтов или прозаиков в целой книге», — считает моя мать, Дина Рахметова. Даже если в этом комплименте есть доля преувеличения, она — свидетельство любви, по большому счету, всенародной любви к Абаю. Характерны и такие высказывания: «Нет слов, которых бы Абай не сказал!» Суть этих высказываний сводится к единому: в творчестве великого поэта, мыслителя и просветителя можно найти ответы на все вечные вопросы жизни — о добре и зле, любви и ненависти, истине и заблуждении, красоте и безобразии.
Абай Кунанбаев жил в своеобразную казахскую эпоху Возрождения, когда все острейшие проблемы бытия как бы поднимались на его поверхность и когда их отображение требовало от философа или художника особой многомерности, универсализма. Абай — философ, поэт, просветитель, духовный вожатый и наставник своего народа и был таким универсумом. Универсальными были и образование и мировосприятие Абая. Он был хорошо знаком с творчеством античных философов, средневековых мыслителей, титанов мысли и культуры Востока, Запада, России.
Названная тема достойна отдельных очерков, монографий и книг. Мы же в данном случае остановимся, пожалуй, на одном моменте: специалисты находят глубокое созвучие в. творчестве Абая и великого немецкого поэта и мыслителя Иоганна Вольфганга Гете. Где истоки родства автора «Книга слов» и автора «Фауста»? Этот вопрос требует специального и глубокого изучения и исследования. Нам же, после констатации интересного факта, уместно будет привести другие, носящие по отношению к первому подчиненный и следственный характер, но от этого ничуть не менее любопытные. Такие, к примеру. В казахстанских городах Абае, Семее и Акмоле есть улицы, носящие имя Гете. В свою очередь, в германских музеях Гете целые разделы посвящены Абаю.
Творчество Абая было созвучно творчеству некоторых других его великих современников. Наверно, это шло от глубины постижения и отображения жизни, когда художник, мыслитель, независимо от национальности и различий местного колорита, поднимается к высотам общечеловеческого. Абай бескомпромиссно и беспощадно высвечивал правду, и оттого муза его трагическая, судьба самого поэта — тоже. Отсюда следующие строки: «Я человек с черной кровью и раной в душе...» Но именно Абай, поднимаясь над ощущением трагической предопределенности бытия, произносит чеканное:
«Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе.
Лишь бездарный покоряется судьбе».
Или, видя всю власть пороков над человеческим естеством, Абай находит силы для оптимизма: «Если б в моих руках была власть, я отрезал бы язык всякому, кто говорит, что человек неисправим». А какой разящей точностью и меткостью отмечены следующие слова Абай: «Лентяй всегда ханжа и лицемер».
Да, по величию и глубине мысли Абая родственен другим гениям, а по особенностям их выражения ни на кого не похож, глубоко индивидуален и неповторим. Вслушаемся:
Когда умру — не пухом мне
могила,
В сырой и мрачной глубине,
Язык мой острый и
строптивый Оледенев, не возразит тебе.
Насколько похож здесь и одновременно не похож Абай на Пушкина!
Каждый великий поэт, мыслитель остается в сознании миллионов как символ того, что он привнес в сокровищницу мировой культуры. Так, Шекспир остался недосягаемой величиной в драматическом показе всепоглощающих страстей человеческих. Достоевский известен нам как до болезненности тонкий исследователь изгибов души человека. Данте дал миру непревзойденное изображение Ада и Рая. Чем обогатил человечество Абай? Пожалуй, дантовской мощью демонстрации Рая и Ада — только не вовне, а внутри, в душе человеческой. Вслушаемся опять: «... сражающееся и с любовью и с ненавистью сердце...» Можно ли лучше, глубже и проникновеннее сказать о Рае и Аде, сосуществующих в человеческой душе. По Абаю, Сердце — это метафора мира, вобравшая все достоинства и пороки, радости и ужасы, совершенство и несовершенство, божественное и дьявольское, одним словом — человеческое. Отсюда и трагические противоречия в творчестве самого Художника. С одной стороны, он призывает «быть разумным, укреплять свой дух в борьбе», поскольку «Лишь бездарный покоряется судьбе», а с другой — вопрошает: «Жить? Зачем?! Есть ли смысл в ней, в жизни?..»
Абай настолько глубок и многоплановен, что каждое поколение находит в нем что-то важное для себя. И юнец, и старец равно могут обогащать себя общением с бессмертным Абаем. Только если юный найдет то, что приветно раскрывающимся духу и душе, то старый — закрывающимся...
Значение Абая для казахов — и не только для казахов, но и для всех мыслящих и чувствующих людей с годами не уменьшается, а все более возрастает.
Велико и неоценимо влияние Абая на творческих людей. Не так давно общественность Семея отметила Дни Кокбай-акына, бывшего одним из учеников и соратников великого поэта и мыслителя. Организовал этот праздник местный областной музей. Было проведено театрализованное представление, повествующее о том, как Абай пестовал начинающие дарования, как он вскормил музу Кокбай-акына. Именно по совету Абая Кокбай создал несколько баллад по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь», русских «Конька-Горбунка» и «Иванушки-дурачка». Кокбай-акын написал и поэму «Абылай» об одном из могущественнейших правителей казахской Степи. В тоталитарный период книга не могла увидеть свет. И вот, спустя восемь десятилетий после кончины автора, поэма пришла к читателям благодаря агентству Дария-пресс во главе с Адильбеком Жакуповым и частной фирме «Парасат-Самэкс» Аблайхана Идрисова.
Все мы — духовные потомки Абая. А есть ли у него потомки по крови? Вот частный вопрос, представляющий, тем не менее, живой человеческий интерес. Да, есть, и о двоих из них мы вкратце расскажем. Старшего из них, геолога по профессии, зовут Айдар Багфурович Акылбаев. Он — внук Алемкула, правнук Акылбая — старшего сына Абая Кунанбаева. У Айдара и Светланы Акылбаевых есть 21-летний сын Данияр, прапраправнук, пятое колено рода Абая. Данияр учится в Санкт-Петербурге на океанолога. Проявляет интерес к языкам. Помимо родного, владеет русским, французским и английским. Склонен к работе в Антарктиде.
Вернемся к творчеству Абая, которого автор эпопеи «Путь Абая» Мухтар Ауэзов назвал «зрячим оком, отзывчивым сердцем, мудростью народа». Творчество это — безмерный океан мыслей и чувств. По нему рискованно пускаться в плавание без определенного ориентира. Возьмем на сей раз в качестве отправной точки соотнесенность творчества Абая более чем вековой давности с нашими днями. И что мы обнаруживаем? Поразительное явление. Абай вдохновенно, с надеждой и горечью повествует о нас с вами, о наших проблемах.
Взять пресловутый национальный вопрос. Будем откровенны, как часто приходилось нам слышать в узком кругу людей своей крови самые нелестные отзывы о «инородцах», «иноверцах», представителях — естественно, «нелучших» — «плохих национальностей». А теперь послушаем мудрого Абая, который говорит, что нет плохих или безнравственных народов и более того — призывает к смелой и открытой национальной самокритике. Трудно, ох, просто невозможно спорить с Абаем. Практика показывает со всей очевидностью, бичевать плохое в «чужих» бесплодно и даже опасно. Такая критика поневоле встречается в штыки. Бичевать дурное в себе и «своих» полезно и даже необходимо, это — показатель здоровья нации, того, что она способна очищаться от грязи, расти и развиваться.
Творчество Абая и, в частности, «Книга Слов» вступает в открытую полемику с узколобыми националистами всех мастей. Она говорит им: не замыкайтесь в себе, в своей злобе и узости, не закрывайте перед собой и окружающими просторную дверь к богатствам общечеловеческого. Абай никогда не отрекался от собственного народа. Он любил его как, может быть, никто, и он же подвергал его острой критике: «О, казахи, мой бедный народ!» — и далее по тексту. Абай призывал казахов жить в дружбе с великим русским народом, другими большими и малочисленными народами. Абай с тревогой предостерегал от опасной тяги сводить личные счеты, прикрываясь интересами своей нации и тем самым втягивая в личные и мелкие распри целые народы. Абай говорил: смотрите на другие народы, как на братьев своих. Что может быть гуманнее и мудрее этих предостережений и этих призывов!