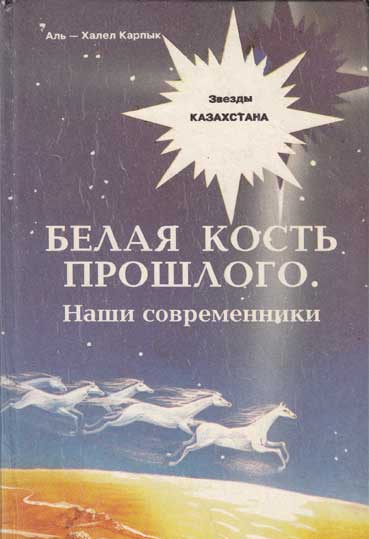Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 24
| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |
| Автор: | Аль - Халел Карпык |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1994 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
КОММУНИЗМ И АБЫЛАЙ-ХАН
Словесная пикировка происходила на главной публики, которая еще недавно называлась Коммунистическим проспектом, а ныне переименована в проспект Абылайхана. Выясняли отношения две немолодые уже женщины — светловолосая и темноволосая.
— Зачем нам ваш Абылай-хан? — возмущалась первая. — Назывался проспект Коммунистическим, так обязательно надо было переименовать!
— Правильно сделали, что переименовали! — бросила в сердцах вторая.
— Ну, и что дал нам ваш Абылай-хан?
— А что принес нам ваш коммунизм, кроме обещаний светлого будущего?
— Коммунизм хоть обещал светлое будущее. А ваш Абылай-хан всего лишь — темное прошлое.
Пикировка развивалась по всем правилам боевого искусства: вначале обмен горячими «любезностями» и «эпитетами», затем откровенная перебранка... Здесь было все, кроме здравого смысла, точных фактов, желания дойти до истины. В чем же смысл? Каковы факты? Где истина? И кто был прав в споре, перешедшем в далеко не безобидную ссору? Думаю, не права была каждая из женщин, ведшая диалог в русле — «наш» и «ваш». Полагаю, и Абылай-хан и коммунизм — «наши», ибо они — наша общая история, от которой нам не откреститься, как бы кому-то того не хотелось... Здесь, на проспекте, я провел опрос.
Первым остановил молодого, крупного сложения мужчину-казаха в очках.
— Здравствуйте! Я представляю информационное агенство Аль-Халел. Если позволите, задам Вам один вопрос: Ваша ставка — на коммунизм или Абылай-хана?
Карие глаза моего собеседника умно и хитровато прищурились:
— Коммунизм породил Сталина — «отца народов», который душил их. Другие коммунистические «отцы народов» дурачили их. Что касается Абылай-хана, то он — подлинно мудрый и заботливый отец казахского народа. У него есть чему поучиться современным политикам с их непомерными амбициями и... недальновидностью... Так что не зря, наверно, у меня дома на столе бронзовая статуэтка Абылая!
Молодая интеллигентная русская женщина, Татьяна:
— Знаете, трудно с ходу отвечать на такие вопросы, — задумалась она и вымолвила:
— Дело, конечно, не во мне. Видимо, сама история сделала ставку на Абылай-хана. Он — реальность, коммунизм — утопия, и не столь радужная, какой представлял ее Коммунистический манифест.
Пожилой украинец, на вид рабочий, Василий Петрович Афанасенко:
— Я не знаю, кто такой Абылай-хан. О нем молчу. А коммунизм... Разве плохо жили при нем? Всякого добра и продуктов в магазинах было полно, и все — дешевое. С сегодняшними ценами не сравнить! А что свобода печати отсутствовала — так ею же сыт не будешь, и Василий Петрович замялся.
— Ставку: на коммунизм или Абылай-хана? — переспросила и рассмеялась задорного вида модно одетая девушка, Светлана, — даже не знаю, как сопоставлять их. Коммунизм — это абстракция, Абылай-хан — живая личность, о которой, правда, я могу судить лишь по портрету. Так... дайте вспомнить... властное, умное, породистое лицо... Что еще? Больше ничего не знаю..., — и Света еще раз рассмеялась.
— Коммунизм или Абылай-хан?! — средних лет седовласый мужчина-казах, Дуйсен-ага, не на шутку рассердился. — Коммунизм отнял у нас государственность, едва не погубил казахскую нацию. А Абылай-хан как раз укреплял государственность казахов, был живым символом их возрождения.
— О коммунизме ничего не буду говорить, запутали, — отрицательно замахала руками Сауле, школьница. — То он считался самым что ни на есть передовым строем, то — реакционным... А Абылай-хан... Очень мало знаю о нем... Лицо такое решительное, волевое, жестковатое, может, даже и жестокое... Это я о портрете, который где-то видела.
— Трудно сравнивать политическую систему и живого человека, — скороговоркой проговорил молодой быстрый в движениях мужчина, Олег. — Давайте лучше так: ведущие апологеты коммунизма Маркс, Энгельс и Ленин, с одной стороны, и Абылай-хан, с другой. Кому отдать предпочтение? Затрудняюсь. О Марксе и Ленине слишком много написано, и большей частью неправды, об Абылай-хане — слишком мало.
— Я рад, что с коммунизмом покончено, немного волнуясь, признался плотного сложения подтянутый казах, Асан. — Вот сейчас, при рыночных отношениях, я создал коммерческую фирму, занимаюсь нравящимся делом. Раньше об этом и помыслить не мог. Коммунизм заглушал в корне любую частную инициативу... Абылай-хан... Рассказывают, он спросил однажды у своих сподвижников, кто, на их взгляд, является главным врагом казахов. В ответ были названы поочередно все соседствующие с казахами народы. Абылай-хан молчал. И лишь услышав, наконец: главный враг казахов - сами казахи. одобрительно кивнул: верно! Какие ум и чувство справедливости надо иметь, чтобы мыслить так! А ныне политиканы во всех бедах своих народов пытаются обвинить другие, зарабатывая себе дешевый политический капитал и толкая людей в кровавую бойню... А в общем-то, я делаю ставку ни на коммунизм, ни на Абылай-хана, а на рынок и самого себя, — произнеся это и кивнув на прощание, Асан удалился.
— О коммунизме, пожалуй, пора забыть, а об Абылай-хане — вспомнить, — поднял указательный палец вверх дородный рыжебородый мужчина, Степан. — Абылай был хитрым и умным ханом, сумевшим объединить свой народ, ладить с Россией и другими соседями. Как далеко он смотрел и как много видел! Побольше бы нам подобных политиков.
— Абылай-хан — это феодализм, средняя стадия в развитии человечества, коммунизм — высшая, самая прогрессивная, но погубленная капиталистами, — отрезал Иван Никанорович, 75—78 лет на вид. — Я за коммунизм!
— Абылай был представителем ак суйек (белой кости) и отстаивал интересы знати, а коммунизм — простых людей, «черни», — произнес назидательно пожилой казах, отказавшийся представиться, — отсюда и надо исходить. Лично я — из простых, я — за коммунизм и коммунистов.
Не буду брать на себя роль верховного судьи в невольном споре мнений, а просто выскажу свое. Мы можем продолжать упорно называть главную улицу республики Коммунистическим проспектом, но не лучше ли, глядя реальности в глаза, величать ее проспектом Абылай-хана.
Хан Абылай — громадная личность, огромный пласт истории, требующие не поверхностных суждений, а глубокого изучения и следования мудрым заветам и урокам.
***
Коммунизм и Абылай-хан... Эта высокая тема навела меня на размышления, связанные с нею, хотя и кажущиеся менее значительными. Я подумал о людях, носящих имя «Аблай-хан» и о том, каково им приходилось с ним в годы ушедшего в историю коммунистического режима.
С двоими такими людьми, молодыми по возрасту, я даже знаком лично. Одного из них зовут Абылайхан О., другого — Аблайхан Саматдин-улы Идрисов. С первым из них меня связывает шапочное знакомство, со вторым — дружеские и деловые отношения.
Внимательные читатели уже заметили, что я не указал фамилии Абылайхана О. И это отнюдь не случайно. Ибо остаться инкогнито, быть в стороне от людского внимания стало с давних пор для Абылайхана О. навязчивой идеей, неистребимым желанием, жизненной потребностью. Как, отчего родилась такая позиция? Всему «виною» — имя, данное Абылай-хану О. при рождении отцом, сельским учителем — историком, питавшим слабость к отечественной истории и одному из ярчайших ее героев — хану Абылаю. Разумеется, аульный педагог и представить себе не мог, каким немыслимым испытаниям подвергает он сына. А они начались буквально с первых школьных шагов мальчика. Он не понимал, почему его дразнят сверстники, почему косо смотрит кое-кто из взрослых. Резко усилились страдания Абылайхана О. в армии. На нем здесь чуть ли не в буквальном смысле слова ездили. Доходило до прямых унижений. Робкого и несколько неловкого парня чаще других отправляли чистить нужники, мыть грязную посуду на кухне, приговаривая издевательски: «Рядовой Абылайхан, шагом марш!..» Служба в отдаленной воинской части, в глубине России, показалась бедному юноше сущим адом. Он даже подумывал о том, не наложить ли ему на себя руки... Из глубокой депрессии выводили его лишь теплые, полные любви, письма из дома.
Учеба в институте тоже не была для Абылайхана О. раем. И хотя откровенных издевательств не совершалось, студент постоянно ощущал незримый гнет. Его уделом были неизменная ирония, утонченное недоброжелательство со стороны окружающих. Теперь уже Абылайхан О. был далек от мысли покончить с собой, но, чего греха таить, желание изменить имя жило в нем постоянно. Сделать это не позволяло уважение к памяти покойного отца, давшего его (отец Абылайхана умер, когда он поступил на первый курс вуза).
Но вот в стране начались демократические перемены. И имя хана Абылая, вынырнув из мрака забвения, засверкало в лучах обновленной славы. Казалось бы, судьба должна была стать милостивее к Абылайхану О. в этих круто изменившихся обстоятельствах... Увы, этого не случилось. Она по-прежнему была безжалостна к молодому человеку, как бы изнемогавшему под непосильным бременем.
Для чего автор так долго рассказывает о злоключениях Абылайхана О., явно неуместного в книге о ярких и незаурядных личностях. А вот для чего. Мне хочется сказать о той большой ответственности, которая лежит на взрослых, дающих своему чаду очень известное, прославленное имя... Что касается Абылайхана О., то его беды усугублялись мнительностью натуры, ранимостью души, безвольностью характера, помноженных на социальную несовместимость и враждебность «ханского имени» и коммунистического режима.
Антагонизм режима и имени ощущал и мой хороший товарищ Аблайхан Саматдин-улы Идриров. Однако здесь — противоположная картина. Крепкое телосложение, сильные характер и воля, большая энергия, ум, ярко выраженные качества лидера довольно рано выявились в Аблайхане Идрисове. И хотя ему тоже непросто было носить монаршее имя, Аблайхан всей линией своего поведения показывал, что достоин его. И потому с юношей невольно считались. Школа, армия, университет, производство и, наконец, руководство своей, ставшей известной частной фирмой «Парасат-Самэкс» и корпорацией «Parasat» уже в новую, рыночную эпоху — таковы вехи жизни и развития молодого человека, которого зовут — Аблайхан. Более подробный рассказ о нем — впереди.
НА ЗВЕЗДНОЙ ОРБИТЕ (РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ)
АБЛАЙХАН ИДРИСОВ, «ПАРАСАТ-САМЭКС» И «PARASAT»
Мы уже знаем, какое огромное воздействие оказала белая кость (ак суйек) прошлого на жизнь и развитие казахской Степи. Знаем также, что представители белой кости (ак суй-ёк) делились на торе (ханы, султаны) и ходжей (высшие служители мусульманского культа). А сейчас, уважаемые читатели, вам предстоит знакомство с молодым человеком, который считает себя вдвойне белой костью (ак суйек). «Каким образом?» — удивитесь, наверное, вы. Дело в том, что Аблайхан Идрисов — а так зовут главного героя нашего очерка — происходит из весьма почитаемого казахами аристократического рода ходжей, как раз и восходящего к прославленному Пророку Аллаха Мухаммеду. На происхождение Идрисова из ходжей прямо указывают и его отчество и фамилия. Вслушаемся в их звучание: Аблайхан Саматдин-улы Идрисов. Так вот: Са-матдин, Самат, говорит Аблайхан, — это одно из 99 имен Аллаха, а Идрис — имя Его Пророка. Это — с одной стороны... С другой— Аблайхан считает своим духовным праотцем знаменитого торе, одного из самых авторитетных казахских правителей — хана Абылая. Кстати, отец Аблайхана пострадал в свое время из-за того, что дал сыну это высокое имя. Ведь во времена тоталитарного режима Абылай-хан считался врагом народа. И отец Аблайхана, Саматдин-ата, подвергался жесткому давлению со стороны властей за симпатии к «врагу народа» и попытки поднять его на щит, называя его именем сына. Предлагалось даже поменять «чуждое уху советского человека имя на нормальное». Саматдин-ата, человек глубоко порядочный и принципиальный, не поддался давлению, не испугался угроз. Он глубоко уважал хана Абылая, который через разум — а глубокий и цепкий ум в этом правителе признавали даже враги — вел свой народ к процветанию.
«Через разум — к процветанию!» Саматдин-ата завещал сыну быть умным, предприимчивым, как торе, и добрым, как ходжа. Аблайхан свято воспринял завет отца. И когда пришло время создать частную фирму, Аблайхан Саматдин-улы Идрисов назвал ее «Парасат-Самэкс» и в качестве кредо взял: «Через разум — к процветанию!» Философия деятельности заложена в самом названии организации. «Парасат» означает по-казахски разум, интеллект, прогресс. Частное производственно-коммерческое предприятие Аблайхана Идрисова быстро добилось процветания.
— С ним все ясно, — усмехнется, возможно, скептически настроенная часть читателей. — Конечно, когда родители привилегированной белой кости, они имеют поистине богате-е-ейшую возможность выложить сыночку-коммерсанту для первоначального развития несколько миллиончиков.
И... ошибутся. Саматдин-ата и Сапура-апа не в состоянии были дать сыну денег: отец Аблайхана был простым шофером, а мать рядовой колхозницей. Не будем забывать, в тоталитарную эпоху «всякие там торе и ходжи» автоматически рассматривались как «классовые противники» и «враги народа», даже если были самыми искренними и большими его друзьями. Эти торе и ходжи были лишены не только наследственных привилегий, но и фамильных материальных ценностей и благ. Так что всего, что он имеет нынче, Аблайхан Идрисов сумел добиться исключительно активным и упорным применением своего кредо в жизни, хотя были и моменты везения. О них — несколько позже.
«Через разум — к процветанию!» Для Аблайхана Самат-дин-улы Идрисова свята память об отце, других предках. Аблайхан верит в Аруахов — духов предков и считает, что они помогают ему в жизни и деятельности. Аблайхан Саматдин-улы Идрисов верует в Аллаха. Потому и сына своего назвал Исламдин, соединив в одном имени два: имя отца жены — Ислам и концовку имени своего отца — Дин. Получилось — Исламдин (Вера Ислама). Вот и супругу выбрал себе Аблайхан с душевным именем — Жансулу (Душа красоты). Так что духовность, разум, интеллект всегда стояли и стоят для Аблайхана Саматдин-улы Идрисова на первом месте. Оттого и явны так его успехи.
«Через разум — к процветанию!» Казахи говорят: души предков радуются на небесах, когда потомки на земле вспоминают их. Аблайхан Саматдин-улы помнит всегда отца, рассказывает о нем. Саматдин-улы родился в 1906 году в райцентре Яны-Кургане Кзыл-Ординской области. Был водителем первого класса. Участник Великой Отечественной войны, имеет ордена Отечественной войны, много медалей, грамоту за личной подписью И. В. Сталина. После войны женился на будущей маме Аблайхана и его братьев и сестер, Сапуре-апе.
Память об ушедших тесно связана с почитанием живых. Аблайхан Саматдин-улы глубоко уважает и любит свою маму. Сапура-апа, как и Саматдин-ата, — представительница белой кости. Родом она из святых мест — города Туркестана Южно-Казахстанской области. Аблайхан неизменно придерживается завета отца и пожелания матери: «Кем бы ты ни был, с кем бы ты ни был, где бы ты ни был, оставайся всегда человеком и мужчиной».
«Через разум — к процветанию!» Вряд ли большие дела оказались бы Аблайхану по плечу, если б он думал лишь о себе и своем успехе, гнался только за личной выгодой и удачей. Постараемся понять внутренний мир нашего героя. Аблайхан на досуге любит делать выписки из различных книг, сам придумывает кое-какие жизненные и творческие формулы, как бы раскрывающие и дополняющие его кредо. Перечитываем вместе некоторые их этих записей. Такую, к примеру: «Наш персонал — наша гордость и гарантия вашего успеха». Или такую: «Мы искренне заинтересованы в успехе вашего дела, верим в свои силы и будем рады работать вместе с вами». Или такую: «Я убежден, благосостояние страны есть совокупность благосостояний ее жителей. Богатое государство при всеобщей нищете его граждан — это абсурд. Надо дать человеку разбогатеть, а уж потом взимать с него налоги по полной шкале».
«Через разум — к процветанию!» Если вы еще не устали, дорогие читатели, предложим вашему вниманию еще одну сентенцию из записной книжки Аблайхана Идрисова: «Если человек заработал сегодня для себя кусок хлеба, а завтра половину этого куска у него хотят отнять посредством налогов, то когда и как этот человек сумеет зарабатывать на жизнь себе, своим родным и близким?» Ограничимся последней сентенцией и послушаем комментарий Аблайхана Идрисова: «Для того, чтобы достичь человеческого уровня существования, сейчас многие пытаются создавать коммерческие фирмы. Пока будущий бизнесмен занят решением чисто организационных вопросов, он тешит себя иллюзиями: «Скоро зарегистрируюсь — и начну крутиться. Глядишь, дела пойдут в гору». Первое же столкновение с грубой реальностью кладет конец всем иллюзиям. Для успешного начатия дела необходим кредит. Взять его неоткуда. А если через кучу крутых посредников выйдешь на какой-нибудь банк, то там «по-свойски» запросят такую «шапку» — взятку, что от ужаса собственная шапка слетит с головы... «Как же тогда начинать собственное дело?» — спросят читатели. — И как его начинал, допустим, Аблайхан Идрисов. Как сумел он, не имея, по собственному утверждению, «толчка», «волосатой лапы», «мохнатой руки», подняться? Мыслим ли такой подъем? Да! Мне и моим «ровесникам» по бизнесу повезло. Когда я основал свою частную фирму «Парасат-Самэкс», действовали еще «горбачевские 5 процентов налога». Это было в 1990 году и год тот был в прямом и переносном смысле золотым для занятия бизнесом. Пользуясь теми условиями, которые сейчас воспринимаются как налоговые льготы, моя и некоторые другие фирмы сумели набрать хорошие обороты и уйти в отрыв. Кое-чего успели добиться и коммерческие структуры, образованные следом за нами. Но условия для работы были у них уже похуже. Ну, а позже налоговая политика приобрела драконовский характер. И новобранцу бизнеса, допустим, нынешнего года нужно быть, как говорится, семи пядей во лбу, чтобы добиться мало-мальски заметного успеха...
Скажу прямо: меня такое положение не радует. Ведь те, кто пришел в бизнес в последнее время и тщетно пытается пристроиться в хвост ушедшим далеко вперед лидерам, чувствуют досаду и озлобление. Они начинают смотреть на всех без исключения лидеров бизнеса как на блатных. В этой ситуации мне жалко и тех, кто явно впереди (как это ни звучит парадоксально), и невольных аутсайдеров. Первые не виноваты в том, что они начали раньше и им повезло с налогами: вторые тоже не виноваты в том, что они начали позже и им не повезло с налогами. По этой самой причине некоторые неудачливые бизнесмены переходят в рэкетиры, теша себя обманчивой мыслью, что они чуть ли не защитники народных интересов — этакие робин гуды, отнимающие у богатеев неправедно нажитое...
Виновато в этой ситуации государство, которое своей не всегда продуманной политикой вносит дисбаланс в общество. К тому же дикие подскоки налогов в поднебесье отнюдь не обогащают, вопреки ожиданиям, само государство. Видя, что их «пытаются задушить налогами», бизнесмены волей-неволей предпринимают ответные, не совсем, а порою и совсем незаконные действия. Попросту говоря — ловчат...
Ощущая это и проникшись праведным негодованием, властные структуры начинают «плотнее закручивать гайки». И между государством и рыночными структурами, призванными идти одним курсом, возникает конфронтация. Кому она нужна и что она дает?.. Почему бы нашему родному государству не прислушаться к мудрым словам писателя Чингиза Айтматова: «Без богатого общества нельзя построить богатого государства». Ведь эти слова взяты Чингизом Турекуловичем не с потолка. Они — результат углубленного наблюдения за жизнью человека, обладающего богатейшим багажом, работавшего послом в процветающей капиталистической стране».
«Через разум — к процветанию!» Аблайхан говорит о «горбачевских 5 процентах налога». Это и были 5 процентов везения Идрисова. Остальные 95 процентов пришлись на долю умного расчета, предприимчивости и энергии. Обоснование этого тезиса предварим несколькими биографическими штрихами из жизни Аблайхана Идрисова. Первые навыки производственника и бизнесмена получил он в шестилетнем возрасте. Многодетная семья Идрисовых жила под Ташкентом. И родители очень активно занимались трудовым воспитанием детей: маленького Аблайхана, двух его братьев и шести сестер. Отец с матерью чуть свет поднимали заспанную ребятню, с трудом отрывавшую головенки от подушек, и посылали их в парники ухаживать за всходами. Тем, что давали эти парники, и жили. Будущий большой бизнесмен шести лет от роду продавал в старой части Ташкента огурцы и помидоры. Семи лет — отлично знал технологию выращивания и ухода за овощами и фруктами.
Недаром Аблайхан ныне заявляет с гордостью: «Да, я опытный коммерсант, но в первую очередь и главным образом я — производственник». Серьезное трудовое воспитание только на пользу пошло Аблайхану и его братьям и сестрам. К примеру, старшая сестра Аблайхана Зухра Саматдин-кызы Идрисова, преподаватель русского языка и литературы, удостоена звания «Заслуженный учитель Узбекистана». Добились хороших успехов в жизни и другие братья и сестры Зухры и Аблайхана.
«Через разум — к процветанию!» Кроме того, совместный созидательный труд сплотил братьев и сестер, объединил с ними других родственников. Они по-настоящему дружны. Согласимся, нередки случаи, когда в семье, где кто-нибудь добился успеха, между счастливчиком и остальными его сородичами как бы разверзается пропасть. У Идрисовых — наоборот: успех одного словно катализирует успехи других и общий успех. Так, старший брат Аблайхана, Алиходжа Саматдин-улы Идрисов, возглавляет дочернее предприятие фирмы «Парасат-Самэкс». Средний брат, Айтходжа Саматдин-улы Идрисов работает в фирме «Парасат-Самэкс» директором центра производства товаров народного потребления. Трудятся в фирме Аблайхана Саматдин-улы и два его племянника — Торехан Сатымбек-улы и Санжархан Сатымбек-улы. Они рано потеряли отца. Его заменил им сейчас заботливый дядя, Аблайхан Саматдин-улы. Он дал племянникам крышу, под сенью которой они имеют возможность проявить все свои способности. Братская дружба и покровительство Аблайхана Саматдин-улы родственникам — отличное подспорье в работе. Разумеется, братско-родственные и покровительские отношения не означают попустительства и вседозволенности. Аблайхан Саматдин-улы спрашивает с родственников и друзей, работающих у него в фирме, не меньше, если не больше, чем с других. Когда надо — проявляет и строгость. Работа есть работа. Прекрасно понимают это и родственники и друзья, связавшие свою жизнь с «Парасат-Самэкс». Казалось бы, то, о чем рассуждаем мы сейчас, — банальность. Но сколько руководителей, привлекших к работе в своих фирмах родственников и друзей, споткнулось на этой «банальности».
Да, если братья и племянники — одно крыло поддержки Аблайхана Саматдин-улы, то друзья — второе крыло. Конечно, добрая инициатива в данном случае исходит прежде всего от Идрисова как хозяина фирмы, работодателя. Он справедливо считает, что старый друг лучше двух новых. Именно поэтому бок о бок трудятся рядом с Аблайханом Саматдин-улы в его фирме — бывший сокурсник по университету Владимир Ефимович Орлов, главный брокер; бывший однополчанин по службе в армии Руслан Самарханович Иржанов, директор по внешнеэкономической деятельности. Именно поэтому, когда я попросил Аблайхана Саматдин-улы назвать имена наиболее заметных его работников, он начал с первого работника фирмы Сагдат Зенгалеевой. Вот уже четыре года трудится Сагдат в «Парасат-Самэкс». Аблайхан Идрисов доволен названными людьми. Они, как и ряд других, — его опора в многосторонней и сложной деятельности. Родственники и друзья — на эти два крыла и опирается Аблайхан Саматдин-улы в свободном полете по рыночному курсу, поддерживая, стараясь поддерживать хорошие отношения и с другими работниками фирмы и корпорации.
«Через разум — к процветанию!» Производство и коммерция — две основные ипостаси деятельности Аблайхана Идрисова, «Парасат-Самэкс» и «Parasat». Но на первом месте — первое. Аблайхан по праву гордится тем, что в свои молодые 32 года имеет 15-летний производственный стаж. Некогда с одним чемоданчиком приехал он в Алма-Ату, дабы, поступив в университет, так сказать, грызть гранит науки. Не поступил... Это позже Аблайхана, несмотря на молодость, будут звать уважительно «Абеке». А в то время у него в столице никого не было — ни друзей, ни родственников; не было своего угла. Аблайхан волей-неволей поселился квартирантом в страшненькой сараюшке. Тяжелое положение не ожесточило, не испугало закаленного в труде парня. Он поступил в Алма-Атинское техническое училище № 12 и с отличием закончил его. Аблайхану открылась дорога в Свердловский инженерно-технический институт, куда он имел право поступить без экзаменов. Однако Аблайхан решил вновь попытать счастья в КазГУ. И вновь его подстерегала неудача — на дневное отделение физико-математического факультета поступить не удалось. Неудачи лишь подхлеснули упорного юношу. Теперь он попытал счастья на вечернем отделении того же факультета. И, наконец, оно улыбнулось ему.
В вузе Идрисов был молодежным вожаком. Параллельно работал автослесарем на Алма-Атинском авторемонтном объединении номер два. До сих пор хранит номер газеты «Вечерняя Алма-Ата» за 17 марта 1980 года, где на первой полосе можно увидеть портрет 17-летнего Аблайхана и прочесть следующие строки: «... молодой рабочий бригады Алик Идрисов
— передовик производства».
Проработав автослесарем год, Аблайхан перешел в токарную мастерскую своего вуза. Здесь ему очень пригодились навыки, полученные в школьном учебно-производственном комбинате. Вначале Идрисов работал по третьему разряду, затем
— по четвертому. Учился по специализации «Теория механизмов и машин» и одновременно работал — четыре года. И хотя Идрисову очень хотелось, не прерываясь, закончить университет, его, не дав закончить учебу, забрали в армию. Два с половиной года защищал Родину, служа в войсках КГБ. Был отличником боевой и политической подготовки.