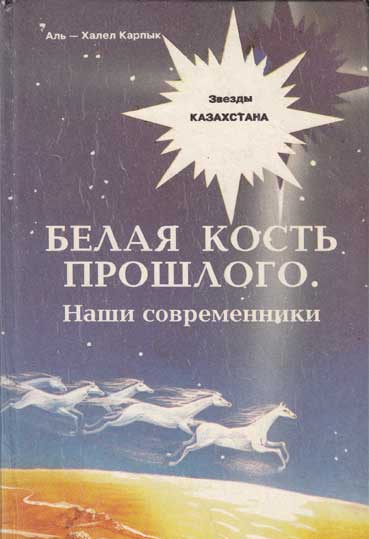Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 3
| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |
| Автор: | Аль - Халел Карпык |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1994 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Кочевники Казахстана даже под угрозой постоянных военных вторжений арабов отказались принять ислам суннитского толка. Не заинтересовали их и шиизм и исламизм, пользовавшиеся большой популярностью в Средней Азии.
У казахских племен был культ Тенгри и богини Умай, рядом с ними было еще множество маленьких божков, и все они олицетворяли Природу. Эта религия называлась натуралистическим пантеизмом. И кочевники не могли в силу своего образа жизни и труда ей изменить. Кочевничество требует, чтобы природные ландшафты оставались неизменными из года в год. И для того, чтобы сохранить степь, природа должна была быть обожествлена, и каждая травинка требовала уважения и преклонения.
Казахи искренне и горячо любили и любят степь. Вот только ее теперь почти не осталось.
Кочевники Казахстана все же со временем приняли ислам, понимая, что нельзя оставаться в стороне от развития мировой культуры. Но приняли ислам суфийского толка. Его принес им великий суфий святой Ахмед Ясави, которого казахи назвали вторым пророком.
В натуралистическом пантеизме действует формула: «Бог есть все». В мистическом пантеизме, составной части суфизма, действует формула: «Всё есть Бог», где уже очевидна подчиненность всего одному Богу.
Ахмед Ясави, родным языком которого являлся тюркский, совершил простой, но совершенно гениальный логический шаг. Он не стал низвергать богов природы, но смог убедить кочевников, что они, эти божества, есть разные проявления одного Бога — Аллаха. Гармоничные, паритетные отношения между человеком и природой были сохранены, и казахи, туркмены, киргизы, каракалпаки приняли Коран. Суфийские шейхи, как указывается в книге историка позднего средневековья Балхи «История кипчаков», становятся носителями в Казахском ханстве религиозных и литературных знаний. В ней же один из самых знаменитых ханов казахов Касым и его предки указаны как давние последователи суфизма.
Казахов всегда укоряли, что они-де не настоящие мусульмане. Но это все равно, как если бы католики заявляли, что протестанты или провославные не настоящие христиане.
Да, вера казахов — ислам суфийского толка — сильно отличается от суннитского, шиитского и исламистского направлений, как, впрочем, и они сами друг от друга.
Главным для верующего казаха является не обязательное пятикратное чтение намаза — молитвы, а стремление жить в гармонии с природой и со всеми людьми независимо от национальности и вероисповедания. Именно в этом он видит истинную любовь к Аллаху, ибо Все и есть Бог. С этим стремлением и связаны почти все религиозные обряды казахов, переосмысленные в связи с принятием Корана: чтение сур Святой книги — молитвы с упоминанием имен своих предков — аруахов, ношение тумаров — талисманов с кораническим текстом внутри и кусочком змеиной кожи или семян гвоздики, дары огню опять же с упоминанием имени Аллаха...
У казахов существует форма приветствия при встрече, о наличии которой у других народов нам неизвестно: «Арсыз ба, халаик?», которая переводится так: «Живете ли вы в согласии со своей совестью, люди?»
Жить в согласии со своей совестью — это важнейшая формула суфизма. Без нее невозможно слияние с Богом.
В суфизме концепция «вахдат ал-вуджуд» — идея Единства Бытия, по которой Бог — единственная сущностная реальность, была создана андалузским философом суфием ибн Ара-би в 1230 году. И с того времени она не была никем опровергнута, но, к сожалению, и не принята во всем мире. Но именно эта концепция может позволить нам остановиться перед почти уже совершившимся падением в пропасть самоуничтожения.
Принимая идею Единства Бытия, мы признаем, что Земля часть Божественного тела. И это уже не место ссылки Адама и Евы, не созданная из ничего территория нашего временного пребывания. Мы живем как частички Бога в самом Боге. Разрушая Землю, человек тем самым покушается на самого Бога.
На прошедшем недавно в Алматы конгрессе Духовного согласия нашим духовно-философским обществом был выдвинут принцип предельного присутствия Бога на Земле. Этот принцип мог бы окончательно подтвердить, что детство человечества окончено. Зрелое человечество космической эпохи подучило в руки некоторые силы самого Бога. С помощью этих сил мы можем уже в считанные минуты разрушить всю планету. А можем воссоздать потерянный человечеством прекрасный мир чистых рек и родников, где не будет больше детей инвалидов-мутантов. Для этого надо отказаться от детской сказки, что скоро на Землю спустится с небес Бог и сам спасет человека.
Мы, как часть всего, являемся частью Бога и им на нас самих возложена миссия спасения себя в Боге и Бога в себе.
Эта единственная возможность указана нам и в святых книгах иудеев, христиан и мусульман. Бог только предупредил Ноя о грядущем потопе, но не строил за человека его ковчег. Ной сам построил его. И этим спас свой народ, животный и растительный мир.
Предупреждений о скорой гибели человечества и Земли было от Бога в последние годы более чем достаточно: Арал, Чернобыль, озоновые дыры над Северной Европой.
Возникает вопрос: а что же конкретно нужно делать? Конечно же, экологические законы наконец-то должны стать для нас самыми главными, и за экологическое преступление и власти, и граждане всех стран должны нести ответственность, близкую к наказанию, которое существует за убийство человека.
Но это все уже общеизвестно. Гораздо труднее будет принять всем людям еще один принцип суфизма — аскетизм.
Человек стал потреблять слишком много. В благополучных странах иметь один автомобиль или телевизор считается непрестижным. А ведь лишняя машина — это еще одна железорудная дыра в земле, это продолжение работы металлургического комбината, уничтожающего и чистый воздух, и чистую воду. В конце концов еще один автомобиль — это еще одна порция гари...
Мы понимаем, что сегодня человек не в состоянии отказать себе в удовольствии иметь лишнее платье, но призываем все-таки задуматься: а была ли в нем крайняя нужда? Ведь самая красивая одежда — это только тряпка, на изготовление которой ушли все те же невосполнимые истощившиеся земные ресурсы.
Возьми от бога только то, что тебе крайне нужно. Разве это не высочайшее проявление любви к Богу, и путь спасения себя в Боге и Бога в себе для нас будет открыт».
А теперь мы подготовлены к тому, чтобы воспринять в полной мере заголовок этих заметок — «Мы есть Бог». Эту всеобъемлющую и мудрую формулу открыл когда-то великий Ходжа Ахмед Ясави. Об этой формуле напоминает нам видный последователь учения суфиев Шахмардан Кусаинов. О необходимости воспринять всю глубину этой формулы вопиют нам погибающие наши Арал и Каспий, вся наша природа в целом. Об этом же кричит на каждом шагу и на каждом углу отчужденность челвека от самого себя и себе подобных, животного, растительного и органического мира— от святых понятий и Бога. Если мы не прислушиваемся к идущему из глубины веков призыву Ходжи Ахмеда Ясави и его последователей и не примем в свое сердце формулу — «Мы есть Бог», в ней может поселиться страшная формула «Мы есть сатана». И тогда предостережения о грядущем скором «конце Света», к которому многие относятся со снисходительной улыбкой как к сказкам для чрезмерно шаловливых детей, могут стать роковой и ужасающей реальностью.
Давайте повторим все вместе и примем во всей полноте счастливую и спасительную формулу — «Мы есть Бог» и никогда больше не расстанемся с ней. Это и будет залогом вечной жизни каждого из нас в отдельности и человечества в целом!
ЗНАМЕНИТЫЙ ЗАВОЕВАТЕЛЬ ЧИНГИЗ-ХАН
Чингиз-хан придавал большое значение походу на территорию Казахстана. Она была важна для него и сама по себе, и как своеобразное «окно» в Восточную Европу и Переднюю Азию. И потому Чингиз-хан как следует подготовился к походу в Казахстан, заранее выведав от мусульманских купцов и перебежчиков все необходимые ему сведения. И вот — поход!
Сея смерть и разрушения, двигались по казахской земле монгольские полчища. Пускали стрелы — темно становилось. Падали воины наземь, сраженные каждый сразу несколькими стрелами. Но монгольские племена встретили здесь ожесточенное сопротивление, которое не могло не вызывать удивление великого завоевателя, привыкшего к более быстрым победам. Каждый город сдавался с упорнейшим боем. И орды Чингиз-хана жестоко мстили за это: население ряда высокоцивилизованных городов Казахстана было вырезано, разогнано, пленено захватчиками, а сами города разрушены.
Правитель Отрара Гаир-хан, опираясь на силы небольшого войска, почти полгода сдерживал рвущиеся в город явно превосходящие силы врага. Мужество Г аир-хана подкрепляло, как ни странно, и отчаяние: он прекрасно понимал — в случае сдачи города пощады ему не видать. Лишь предательство одного из военачальников позволило монголам под прикрытием ночи войти в крепость. Гаир-хану вместе с преданными людьми удалось укрыться во внутренней крепости. Еще долгих четыре недели удерживал осажденный последнюю цитадель... Пал последний воин. Но и оставшись один, Гаир-хан продолжал отбиваться от наседавших врагов кирпичами с разрушенных крепостных стен, подаваемыми рабынями. Личный приказ Чингиз-хана был таков: взять непокорного противника живым. Гаир-хан был окружен и связан. Его доставили к Чингиз-хану. И тот повелел залить ему лицо расплавленным серебром, дабы, в назидание потомкам, осталась посмертная маска дерзкого защитника Отрара. Так, умертвив Гаир-хана, Чингиз-хан одновременно и обессмертил его.
Сыгнак, Ашнас — и здесь монголы дознали всю дерзновенную непокорность осажденных. И за упорство в сопротивлении часть из них убили, часть угнали в плен или изгнали из родных мест. Всюду, где проходили орды Чингизхана, виднелись руины разрушенных городов и крепостей, опустошенных селений, валялись трупы людей и животных...
Несомненно, нашествие Чингиз-хана коренным образом изменило весь ход жизни и развития Казахстана, сказалось на его исторической судьбе. Не говоря об отмеченном уже массовом уничтожении населенных пунктов и людей, здесь беспощадно вытаптывались тщательно возделанные поля, губились сады и ирригационные системы. В то же время монголы по-своему способствовали развитию международных связей и торговли в Казахстане. Положительное воздействие могло оказать на него введение «Ясов» Чингиз-хана — свода правил, который, по мнению ученых, служил образцом при составлении казахского кодекса законов — «Жеты-Жаргы». Немало позаимствовали казахи у монголов и в организации государственного строя. Однако в целом нашествие Чингиз-хана оказалось губительным для Казахстана, приведя к значительному упадку его производительных сил и культуры.
Таким образом, пользуясь современным словарем, Чингиз-хан — одна из крупнейших наших звезд — кроваво-красная, мрачная, с редкими светлыми проблесками. Чингиз-хан — звезда Казахстана не только по причине невероятно большого непосредственного воздействия, но и потому, что через брак его с казашкой Борте появились на свет поколения казахских ханов.
ЖЕНА ЧИНГИЗ-ХАНА, БОРТЕ
К мировому владычеству шел Чингиз-хан через море крови и горы трупов, оставались за ним и кровь, трупы близких. Не мудрено, «Повелителя Четырех Сторон Света» отличали изощренная жестокость и мстительность. Борясь за влияние на сородичей, он убил брата своего, Бектера. По ложному подозрению, едва не лишил жизни другого брата, Хасара.
Подозревая в покушении на власть, отравил будто бы старшего сына, Джучи, рожденного от старшей жены, Борте, — представительницы древнего казахского племени конырат.
Судите сами, легко ли было быть женою—да еще старшей, главной, если можно так выразиться, такого человека. Одна эта многотрудная и по своему почетная доля делает казашку Борте, опять-таки выражаясь современным языком, — звездой. Борте — звезда и по другой, более важной в данном случае для нас причине: ее и Чингиз-хана потомки — Керей и Жанибек основали в свое время Казахское государство — ханство. Что и говорить, жизнь этой женщины заслуживает того, чтобы на нее обратили благосклонное внимание отдаленные поколения.
Есугай-баатур, отец Темучина, в будущем Чингиз-хана, возглавлял улус, объединявший несколько монгольских племен. Вез Есугай Темучина сосватать ему невесту из того же рода, из какого была его собственная жена и мать Темучина, Оэлун. Повстречался ему в пути Дай-сечен, поджидавший знатного Есугая. Дай-сечен радушно поприветствовал Есугай-бататура, назвал сватом, предложил взглянуть на свою дочь. Принял Есугай предложение. Зашел к Дай-сечену. Взглянул на его дочь, юную красавицу Борте. Приглянулась она ему сразу. Так глазами отца «выбрал» Темучин невесту.
Есугай-баатур, по старинному монгольскому обычаю, оставил сына в зятьях у Дай-сечена, а сам уехал по делам. В пути был отравлен врагами и, возвратившись домой, умер.
В юном женихе Борте еще ничто не предвещало будущего грозного властителя. Так он... панически боялся собак, имел другие слабости, простительные для его возраста. Не скоро еще начнет превращаться Темучин в Чингиз-хана. Но и таким полюбила его Борте, а он — ее.
Шло время. Темучин и Борте поженились, стали настоящими мужем и женой. Справляли медовый месяц. В это самое время племя меркитов решило отомстить Темучину за то, что его отец когда-то отнял у их соплеменника невесту, Оэлун, будущую мать Темучина. Меркитские воины совершили набег на аил Темучина и увели в плен Борте. Не исключено, что она была отдана у меркитов в наложницы. Опять-таки трудно ручаться с достоверностью, но, кажется, Борте была тогда беременна и ждала Джучи — первенца.
Самому Темучину во время меркитского набега удалось бежать. Испытывая великий ужас, уходил он от погони, думая лишь об одном — «спастись»! Меркитам не удалось догнать и схватить Темучина, главного, кто был им нужен для того, чтобы убить и в корне пресечь его растущие влияние и авторитет. Меркиты не догнали Темучина и позже это будет стоить им слишком дорого.
Уже довольно крепкий, однако недостаточно — для вызволения жены из меркитского плена, Темучин объединил свои силы с силами Чамухи, другого вожака монгольских родов и своего дальнего родственника и побратима. Выбор был не случаен. Чамуху, как и самого Темучина, отличали, несмотря на молодость, большие ум и хитрость.
Два союзнических войска совершили поход. Вылазка прошла успешно. Темучин одержал одну из первых крупных своих побед. Меркиты в панике бежали, оглашая ночь криками ужаса и боли... Люди Темучина и Чамухи настигали их и безжалостно убивали. Сам Темучин скакал за убегающими в беспорядке меркитами, крича: «Борте, Борте!» Прямо перед Темучином колыхалась во мраке крытая повозка. И когда Темучин в очередной раз прокричал: «Борте, Борте!», из повозки на ходу спрыгнула молодая женщина и кинулась навстречу Темучину. Он соскочил с коня. Темучин и Борте обнялись. Обоих переполняла радость. Не сразу, даже обнимая любимую жену, Темучин ощутил: она беременна. Темучина точно ударили: на смену первой радости придут мучительные раздумья — от него или ненавистного меркита, в неволе, зачала Борте?! Эти раздумья навсегда отравят любовь Темучина к Борте и их первенцу, Джучи... Что касается меркитов, то, ослепленный слепой яростью и жаждой мести, Темучин задастся целью истребить их всех до одного. И достигнет цели: никому не будет пощады — даже малым детям.
Ну, а Чамуха, который помог Темучину вызволить Борте из меркитского плена? По злой иронии судьбы, именно Борте посоветует мужу, превращавшемуся уже в Чингиз-хана, отделиться от Чамухи в один из критических моментов их взаимоотношений. И Чингиз-хан прислушается к голосу жены. Отсюда видно, что Борте, как говорим мы сейчас, оказывала воздействие на высокую политику. Муж Борте отделялся от Чамухи, опасного конкурента в способности влиять на монгол, не гонимым юношей, как прежде, а зрелым повелителем сородичей. Теперь он был, пожалуй, способен сплотить вокруг себя все монгольские племена и править самовластно. Превращение Темучина в Чингиз-хана совершилось. И в этом сыграла определенную роль Борте.
Жизнь Борте незаурядна и трагична. Ведь ее с Чингиз-ханом первенец, Джучи, считал отца выжившим из ума, поскольку «он уничтожает бессмысленно столько людей и целые народы».
По некоторым сведениям, Джучи намеревался убить Чингиз-хана во время охоты. А Чингиз-хан, проведав об этом, приказал отравить его. Если факт отравления действительно имел место, оно может объясняться и другой причиной — просто нелюбовью хана к сыну, родившемуся после меркитского плена...
Во всяком случае, Борте пришлось, видимо, пережить и мужа, и первенца.
Слабая Борте и могучие Чингиз-хан, Джучи, Керей и Жанибек, другие правители, чьи жизни так зависели от жизни этой женщины...
ХАН ДЖУЧИ
Осень 1219 г. и осень 1224 г. Сколько страстей пробушевало между этими двумя бесстрастными датами прихода и ухода кровавого Чингиз-хана из долины Иртыша, казахских земель... Сколько человеческих жизней было оборвано, сколько судеб искалечено, сколь много погублено цветущих казахских городов и селений, истоптано конскими копытами культурных пастбищ, разрушено ирригационных систем, сколько... Всего не перечесть! Все это видел и, видимо, больше других Чингизидов пропускал через себя, через свое сердце старший сын Чингиз-хана, Джучи. Не случайно, когда грозный завоеватель удалился из Казахстана и вместе с ним ушли сыновья, Джучи остался в полюбившихся степях, дабы отдаться целиком делам правления. Кто знает, возможно, любовь Джучи к казахской земле шла изнутри. Ведь в жилах его текла и кровь казашки Борте. Как бы то ни было, строптивый, как его считали, первенец Чингиз-хана решил избавить эти степи от полного разорения и позже дорогой ценой заплатит за сие доброе намерение. Но это — позже...
А пока... С самого начала покорения казахских земель Джучи показал себя более милосердным, чем Чингиз-хан, хотя и унаследвал от него полководческий дар и мужество. Он был отряжен отцом для захвата городов по нижнему течению реки Сырдарьи. Первым делом Джучи со своим войском подошел к уже упоминавшемуся Сыгнаку и вступил в переговоры с его населением. Через своих послов он убеждал жителей казахского города сдаться на милость победителя, избежав кровопролития. Однако Джучи допустил промах, послав к мусульманам посредником мусульманина. Лицезрение предателя оказалось невыносимым для сыгнакцев. Они умертвили его, тем самым, лишив Джучи возможности проявить милосердие. Штурм города начался. Бои отличались ожесточением и длились без перерыва день и ночь. Через семь суток сопротивление осажденных было сломленно. Воины ворвались в крепость и, озверев от ярости, перебили большую часть населения.
Далее Джучи направился в Узгенд и Берчылыгкент. Наученные горьким опытом Сыгнака жители двух последних городов не посмели оказать сильного сопротивления. И с ними обошлись гораздо милостивее, чем с предшественниками. «Урок» Сыгнака не пошел впрок Ашнасу. Город сражался отчаянно и пал под неимоверным натиском явно превосходящих сил врага. И здесь, озверев, воины Джучи перебили множество людей. Затем войско Джучи осадило Дженд. И вновь, следуя своей доктрине попытаться договориться добром, Джучи отправил в город для переговоров своего посланника. Встретили его гневно. Посланнику пришлось напомнить джендцам о печальной судьбе Сыгнака, уничтоженного из-за убийства посла Джучи, и пойти на хитрость, заверив осажденных, что он убедит Джучи оставить город в покое. Наслушавшись оскорблений и едва не лишенный жизни, посол ни с чем вернулся к Джучи и поведал ему о ходе переговоров и их неутешительных результатах. Поскольку ворота города оставались наглухо запертыми, Джучи велел начать штурм. Он сразу же увенчался успехом, поскольку никакого вооруженного сопротивления при занятии крепости оказано не было. Город, как водится, в таких случаях, был разграблен, жители пощажены.
Успешно действовало войско Джучи и при дальнейшем движении по землям, указанным Чингиз-ханом. Сам Джучи оставался продолжительное время в Дженде. Затем Чингиз-хан повелел старшему сыну идти на взятие Хорезма, дав ему в поддержку двух других сыновей — Чагатая и Угедея. Осада Хорезма давалась чингизидам не столь успешно, как взятие предыдущих укреплений. Сказались тут как мужество хорезмцев, так и раздоры между братьями. Чагатай намеревался взять сопротивлявшийся прекрасный город, пусть даже для этого пришлось бы превратить его в сплошные руины. А более гуманный Джучи пытался обеспечить для Хорезма лучшую участь в срздавшихся для него худших обстоятельствах. Разумеется, задача его была крайне сложна. Ибо Джучи не был в силах отменить принцип: если враг не сдается — его уничтожают. Когда Чингиз-хану донесли о спорах-раздорах между Джучи и Чагатаем, он назначил начальником осаждающего крепость войска Угедея, младшего брата Джучи и Чагатая. Распри мгновенно прекратились. Джучи ничего теперь не оставалось, как подключиться к активному штурму. Хорезм пал. Младшие братья после взятия укрепления направились в ставку Чингиз-хана, а Джучи отправился в покоренное им ранее Приаралье и остался там. Следующая встреча Джучи с отцом и братьями состоялась недалеко от Сайрама, где были организованы большая облавная охота и пиршество с участием Чингиз-хана и всех его сыновей.
Словом, в первой трети тринадцатого века завоевание монгольскими ордами территории Казахстана было завершено. Земли его вошли в состав трех монгольских улусов, причем большая, как старшему сыну, была выделена Джучи. И, что примечательно, земли эти, западнее реки Иртыш и Аральского моря, сановный отец пожаловал первенцу еще до их завоевания. Все-таки, насколько уверен был в своих силах «Потрясатель Вселенной!» На территории, отданной Джучи, и создали позднее чингизиды-джучиды Казахское государство-ханство.
Ну, а пока что по плану Чингиз-хана, каждый улус должен был оставаться подчиненным лично ему, а для его сыновей служить лишь источником дохода. Иначе смотрели на положение вещей сами они и особенно — своевольный Джучи. Каждый из братьев мало-помалу прибирал к рукам вверенный ему улус, стараясь сделать его независимым владением. Чингиз-хан был не настолько далеко, чтобы не знать об этом, и не настолько близко, чтобы помешать всерьез действиям потянувшихся к самостоятельности отпрысков.
И все же Чингиз-хан дотянулся до самого строптивого, старшего сына, когда тот открыто заявил о своем намерении быть суверенным государем. Между отцом и первенцем, судя по всему, произошло столкновение... Существуют две версии того, почему Джучи хотел отделиться от центра монгольской империи. Первая: желание быть во всем самостоятельным. Вторая — упомянутая нами ранее: желание спасти пришедшиеся по сердцу казахские земли от полного разграбления и уничтожения их алчным и жестоким отцом. Возможно, обе версии имеют равное право на существование. Так или иначе, конфликт между Чингиз-ханом и Джучи-ханом продолжал углубляться. Со стороны Джучи было большой смелостью, если не безрассудством, пойти против воли могущественного родителя. И отсюда две другие версии — о гибели Джучи. О первой мы говорили: Чингиз-хан велел отравить старшего сына. Вторая версия: Джучи погиб в результате несчастного случая, охотясь за куланами. Есть и третья версия — об естественной смерти Джучи вследствие болезни. Согласно этой версии, Чингиз-хан приказал Джучи покорить северные земли. Последний не выполнил приказ. Разъяренный ослушанием сына, отец велел ему срочно покинуть казахские земли и прибыть в Монголию. Джучи отказался выполнить и этот приказ, сославшись на болезнь. Взбешенный до крайности, Чингиз-хан послал к Джучи карательное войско во главе с сыновьями Чагатаем и Угедеем. В то время, как войско находилось в пути, в ставку Чингиз-хана пришло известие: Джучи скончался...
Как бы то ни было, искренне или притворно, Чингиз-хан оплакал сына. По случаю его смерти, были устроены приличествующие случаю грандиозные обряды. Джучи был похоронен в полюбившейся ему земле Казахстана.