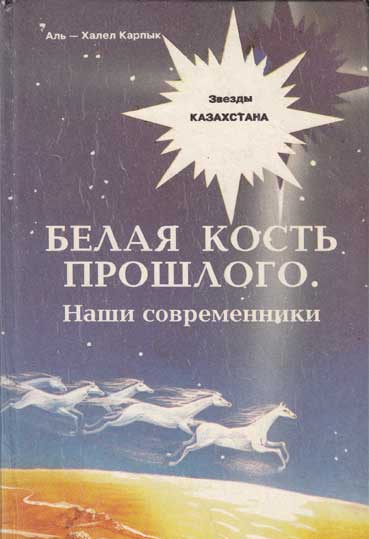Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 22
| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |
| Автор: | Аль - Халел Карпык |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1994 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
И что же делается в республике в этом плане? Организовано специальное агентство, осуществляющее государственную политику по использованию атомной энергии. Это агентство должно будет строго учитывать и регистрировать объекты атомной энергетики, принимать меры по обеспечению безопасности и защите населения и всей окружающей природной среды. Агентство обязано также контролировать деятельность АЭС, подбирать для них всесторонне подготовленный персонал.
Ученые подали агентству рекомендации по приему кадров для работы в атомной энергетике. Критерии отбора тут очень жесткие. В частности, на АЭС должны трудиться люди с отличным здоровьем, не имеющие абсолютно никаких вредных привычек. Так, курящий или даже отказавшийся от курения человек не подходит для работы на атомной электростанции по той простой причине, что у такого человека несколько заторможены реакции на внешние раздражители. А у работника АЭС они должны быть безукоризненно точными и быстрыми.
При строительстве атомных электростанций должны быть неукоснительно соблюдены все необходимые правила. Их располагают не ближе двадцати пяти километров от городов, чье население превышает сто тысяч человек. Проводится международная экспертиза АЭС и атомных реакторов. Отбор персонала для работы на них проводится по строгим тестам, с обязательным испытательным стажем. Словом, атомные электростанции требуют определенной культуры и порядка, которые у нас пока что, мягко говоря, хромают.
Тем более, АЭС противопоказаны нам, примутся рьяно возражать против их строительства те — а число их огромно, — кто был напуган Чернобыльской катастрофой. И вновь будет произнесено устрашающее слово: аварии. Специалисты и тут выдвигают контраргументы. Они говорят: авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла не при обычной ее работе, а во время испытания турбогенератора. А причиной была халатность: эксперимент не был согласован с вышестоящим руководством и главным конструктором, а проводил его, точнее, руководил им не «атомщик», а обычный инженер-электрик. Это все равно, что за штурвал самолета сядет шофер или же космический корабль попытается повести пилот гражданской авиации. Да, они знакомы с техникой, но нужны еще и специальные знания и навыки, уровень подготовленности... В ходе упомянутого эксперимента двенадцать раз нарушалась инструкция по эксплуатации атомной электростанции. Образно говоря, в конце концов она не выдержала издевательств над собой.
Неужели не было других причин аварии? — не удовлетворятся предложенным объяснением скептики. Верно, была еще одна существенная причина, повлекшая за собой беду. И это — конструктивные недостатки самого реактора, что в небезызвестный застойный период не находило огласки. Высшие специалисты знали об опасности, какую заключал в себе несовершенный реактор, и вынуждены были помалкивать...
Пока не «заговорил» сам он! Причем эта не единственная авария на реакторах такого типа. Просто другие не имели столь огромных катастрофических последствий, и они не получили широкой огласки.
А где происходили все-таки подобные аварии? На Санкт-Петербурской атомной электростанции. Причем они случаются и ныне: другое дело — гораздо меньшие по масштабам чернобыльской и их удается локализовать.
Происходили ли аварии крупнее, чем в Чернобыле? Да! В конце семидесятых годов разразилась крупнейшая авария на АЭС Тримайл Айленд в Соединенных Штатах. Однако последствия ее были не столь ужасающими, как в Чернобыле, благодаря более совершенной системе защиты.
Скептики, а вкупе с ними осторожные и напуганные чернобыльской бедой наблюдатели напоминают о «ружье, которое обязательно выстрелит». В ответ приводятся следующие данные: вероятность аварий на атомных электростанциях не исключена, но она просто мизерна по сравнению с риском, существующим от наличия станций иного типа. Так, по мнению специалистов, АЭС примерно в полтораста раз безопаснее нефтяных и угольных станций. Последние к тому же вызывают значительное потепление климата на земном шаре, что чревато таянием ледников и в результате — глобальными катастрофами.
Тогда совсем отказаться от электростанций: как атомных, так и угольных и нефтяных, «подведут баланс» оппоненты, и оставить разве что солнечные и ветряные. Подведут итоги спора и специалисты-«атомщики»: есть лишь одна возможность решения энергетической проблемы в глобальных масштабах — и это, как уже отмечалось, строительство АЭС. Нужно говорить не о том, строить их или не строить, а о применении атомных электростанций с автоматической самозащищенностью; с повышенным электрическим коэффициентом полезного действия; об установке модернизированных реакторов с высокой степенью безопасности; об использовании всех правил возведения и эксплуатации АЭС; о тщательном и строгом подборе обслуживающего персонала.
В ближайшее время в Казахстане должно быть построено несколько атомных электростанций. Время не ждет. Если упустить его, позже еще труднее будет устранять отставание в этом плане от развитых стран, игнорирование веления времени, которое однозначно — за АЭС, доказывают специалисты.
Вот такой разброс мнений и такой расклад.
ЕВГЕНИЙ ЧАЙКОВСКИЙ И ПРОБЛЕМЫ КУРЧАТОВА
Город Курчатов не нуждается в особом представлении, о Евгении Чайковском тоже многие наслышаны в Казахстане и СНГ. Для тех, кто не знает его: с 1989 по 1992 год — депутат Курчатовского горсовета, председатель горисполкома или по-нынешнему — мэр Курчатова. Ныне — депутат, директор Курчатовского инженерно-производственного центра «Атомные технологии». Евгений Владимирович сыграл и продолжает играть заметную роль в жизни небольшого, но имевшего большое значение в судьбе республики Курчатова.
В свое время Е. В. Чайковский предложил руководителю Движения «Невада—Семипалатинск» О. О. Сулейменову идею не просто закрытия Семипалатинского ядерного полигона, но переориентации его на мирный лад. Олжас Омарович счел идею здравой, поддержал ее. Было решено действовать совместно. Однако об этом решении многие еще не знали.
Евгений Владимирович хорошо помнит одно из алматинских заседаний, посвященных годовщине Движения «Невада — Семипалатинск». Зал был полон. Присутствовали представители самых различных движений. Мэра Курчатова пригласили на сцену. В зале, и без того наэлектризованном, поднимаются гвалт, свист, топот. На идущего по проходу интеллигентного, сдержанного мужчину, казалось, готовы были накинуться... Чайковского продержали на сцене час и сорок минут. Провожали на место под дружные аплодисменты. Договорились о том же, о чем и с Олжасом Сулейменовым — об объединении усилий в закрытии и последующем использовании полигона в мирных целях, а не превращении его в безжизненный эколого-этнический заповедник.
Но договориться — одно, а осуществить намерения — иное. Между первым и вторым — дистанция огромного размера. Предстояло выполнить гигантскую по трудности и объему работу: преодолеть сопротивление властей предержащих и мощного военно-промышленного комплекса Советского Союза, державших курс на продолжение деятельности ядерного монстра.
Москва. Готовилось закрытое заседание Комитета обороны и государственной безопасности Верховного Совета СССР. Е. В. Чайковский собирался высказать на нем свою позицию по полигону. Журналисты главной в то время в Советском Союзе телепрограммы «Время», не уверенные в том, что будут допущены на заседание, записали интервью с Евгением Владимировичем. И вот он — в зале заседаний, а корреспонденты «Времени» — за его стенами: так что заблаговременно записанное интервью оказалось как нельзя кстати. Военные в своих выступлениях на заседании, естественно, дружно жали на необходимость активно продолжать испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, иначе, дескать, отстанем от американцев. А выступление Е. В. Чайковского было подобно эффекту разорвавшейся бомбы. Он поделился впечатлениями о встречах по поводу годовщины Движения «Невада—Семипалатинск». Размышлял вслух как человек, в полной мере отвечающий за судьбу и жизнь многих людей. Говорил о том, что, если испытания на полигоне будут продолжаться, трудно отвечать за мирный исход событий, поскольку население прилегающих к ядерному чудовищу мест, да и всей республики по горло сыто испытаниями, проводящимися за счет их здоровья, благополучия и благосостояния. Четко дал знать, что не исключен с его стороны вариант вынужденного призыва людей к профессиональному неповиновению. Во время всего выступления Чайковского в огромном зале, полном высокопоставленных штатских и военных деятелей, царила гробовая тишина. О том, что это была за тишина, красноречиво свидетельствует вопрос одного из депутатов, обращенный к Евгению Владимировичу: «А вы не боитесь не выйти из Кремля?» Вопрос был отнюдь не праздным. В глазах многих крупных военных чинов Чайковский читал откровенную неприязнь, даже ненависть: еще бы, отчаянно смелый мэр Курчатова выбивал у них из-под ног власть, деньги! Кое-кто оказался и поснисходительнее. Так, начальник полигона на Новой Земле в перерыве заседания, похлопывая Евгения Владимировича по плечу, осведомлялся: «Как можно внедрять конверсию на полигоне?..»
С момента своего острейшего выступления на закрытом заседании Верховного Совета и продолжительное время спустя Е. В. Чайковский жил под чудовищным прессом. Очень многие военные — а это часто народ резкий, прямолинейный — без обиняков спрашивали у мэра-миротворца: «Как ты смел?» Уверен, не исключалась и возможность физического устранения этого «крупно насолившего» ядерщикам человека. Что касается штатских, то и в их стане не было равнодушных к Евгению Владимировичу. Вопросы с их стороны тоже были не из легких. Допустим, такие: «Так ты призываешь к профессиональному неповиновению?» И необходимо было обладать мужеством и силой духа Евгения Чайковского, чтобы выдерживать этот пресс, не дрогнуть, не сломаться. К сожалению или, скорее, к счастью, в данном очерке невозможно рассказать обо всех передрягах, выпавших на долю Чайковского или, вернее, Чайковских. В частности, уезжая из Курчатова, военные предпринимали гнусные попытки глумления над близкими Евгения Владимировича. Месть отъезжающих выразилась и в сожжении гарнизонного Дома офицеров — единственного очага культуры, связывавшего закрытый город с окружающим миром, ряде других фактов вандализма.
Все было в душе Евгения Владимировича, кроме страха, — негодование, изумление, горечь, горечь, много горечи... Курчатов напоминал город, пораженный моровой язвой. Военные увозили с собой многое, что необходимо для нормального жизнеобеспечения того же жилья — трубы парового отопления, оконные рамы, обрекая тем самым покидаемый Курчатов на зимние холода... в квартирах, которые теперь невозможно будет отапливать. Но это опять-таки — полдела, об остальной половине — позднее...
А пока что — несколько слов об атмосфере, в коей приходилось Чайковскому трудиться и реализовывать свои перспективнейшие планы и наметки. Домашний телефон его прослушивался. На явно неугодившего военным мэра-депутата собирали компромат. Доходило до курьезов. Говорят, в высоких военных кабинетах звучали и такие диалоги: «Пьет?» - «Не пьет»... «Взятки берет?» — «Не берет»... «Бабу на стороне имеет?» — «Не имеет». — «Так найти, черт побери!» И смех, и грех. Увы, как часто подтверждает жизнь мудрое: не делай добра — не наживешь врага. Враг был. И враг могучий, грозный, державший палец на сатанинской мощи ядерной кнопке, а мир — в страхе. Как одолеть его, превратить в союзника? Такой шанс у Евгения Чайковского был. Он заключался в простом и мудром шаге: переведении воинской части 52-605 из подчиненности Москве в подчинение Алма-Аты, поскольку Москва становилась отныне столицей другого суверенного государства.
И военные, не терзаясь угрызениями совести, преспокойно увозили в Россию сотни единиц дорогостоящей техники, иные материальные, интеллектуальные ценности. Логика их была проста: если отныне воинская часть подчиняется России, то и все вверенное части имущество также принадлежит этой стране. Давала себя знать со стороны отъезжающих и вредительская политика: не дать новоявленному Ядерному центру развиться. А ведь этих военных можно было обратить из недругов в друзья, переведя воинскую часть в подчинение Алма-Аты и поручив им проведение долговременных исследований...
Можно как-то понять и, возможно, даже оправдать логику военных, но невозможно понять и оправдать отсутствие логики у очень умных людей. Те, от кого зависело своевременное переподчинение названной воинской части, не предприняли вовремя (а это надо было сделать очень оперативно) предложенного Чайковским шага. А расплата не замедлила прийти. Кое о каких последствиях уже рассказано, о других обещано было поведать. Так вот, уезжая, военные частью уничтожили, а частью увезли с собой документы, беспристрастно зафиксировавшие последствия взрывов на полигоне, имеющие огромное научно-практическое значение. Эти документы теперь попросту невозможно восстановить. Для чего они нужны? Трудно придумать вопрос наивнее. Ведь Семипалатинский ядерный полигон, к великому сожалению, — не единственный на Земле. И исчезнувшие документы были б крайне важны для показа всей глубины ужасающе бесчеловечных последствий испытания и применения ядерного оружия. А стало быть, для более успешного проведения дальнейшей работы по закрытию и перепрофилированию других полигонов планеты. Горечь Чайковского объяснялась не только раскурочиванием военными, скажем так, материальной части Курчатова, но и исчезновением важных документов.
— Город растаскивал не только покидающий его обычный офицерский состав, — вспоминает Е. В. Чайковский, — но и сам Ильченко, начальник полигона, генерал. Он загружал приглянувшееся добро в самолет и вез в Россию большим военным начальникам. Таким образом, Ильенко держал в руках все Министерство обороны Союза ССР. Похищенное списывалось за счет воинской части. Я вмешивался, пытался остановить этот «пир среди чумы», положить конец ильенковс-ким безобразиям. Борьба между нами становилась все острее. Он предпринимал меры по снятию меня с должности. В ответ на это я ставил вопрос о необходимости выборов главы города не узким депутатским составом, а всем его населением. Между тем положение Курчатова все ухудшалось. Военные, уезжая, жгли складские помещения. Военторг развалился. Штатское население ездило в Семипалатинск за провиантом — 140 километров в один конец. И все это — под аккомпанемент дикого шабаша отъезда военных.
— Жалею ли я о том, что являюсь одним из тех, кто стоял у истоков этой большой «бучи»? — задается вопросом Евгений Владимирович и отвечает на него, — нет, не жалею. Это надо было совершить рано или поздно и гораздо лучше — рано. Ибо нет числа ужасам и горестям, причиненным полигоном людям и всей окружающей среде... Теперь другой вопрос, философского порядка: виноват ли в этом атом? Ни в коем случае! Любое великое открытие — это великое испытание человека, человечества на нравственную состоятельность. И жуткая история с Хиросимой, Нагасаки, Семипалатинским и другими ядерными полигонами — не порок открытия, а порок человеческий.
Далее Евгений Чайковский переходит к весьма дельным предложениям не только по исправлению, но даже коренному улучшению создавшегося положения. Если мы сегодня, продолжает развивать свои мысли Евгений Владимирович, собираясь перейти к конкретным предложениям, не сохраним Курчатов, научно-технический потенциал Курчатова, посланный нам судьбой, пусть и с черной историей, то нам не удастся сохранить интерес к развитию нашей атомной энергетики со стороны зарубежных специалистов. И как следствие — мы потеряем возможность крупных инвестиций в эту приоритетную сферу. Упущенных в этом плане возможностей нам вряд ли простят потомки и сама история. Раскачиваться некогда. В Курчатове есть основа для развития атомной энергетики. И пока она еще сохраняется, надо, не теряя времени, действовать. Каковы мои предложения? Что жизненно необходимо нам сейчас?
Первое. Принять на самом высоком уровне решение о необходимости строительства в районе Курчатова показательной демонстрационной атомной электростанции. Для примера, высоразвитая Япония не боится строить АЭС даже на вулканах... Названная атомная электростанция многое даст Казахстану. Прежде всего, она позволит решить энергетические проблемы, имеющие всегда первостепенную важность. Открылась бы возможность продавать электроэнергию Китаю за валюту. Такая потребность и такой интерес к нам со стороны этого государства есть. При сегодняшнем уровне цен на энергоносители самый дешевый вид энергии — атомная. Это тоже немаловажно. Естественно, необходимо подобрать для АЭС высококвалифицированный персонал.
Второе. Открыть в Курчатове первый в Республике Казахстан физико-технический университет. Одновременно направлять для учебы в лучшие зарубежные вузы наиболее одаренных ребят. Речь идет о подготовке национальной интеллектуальной элиты, невзирая на ее социальное происхождение. Если сын разнорабочего или дочь чабана имеют лучшие задатки по сравнению, скажем, с сыном министра и дочерью руководителя какого-нибудь главка, то направляться на учебу должны именно первые, а не вторые. Так и только так, а не руководствуясь системой блата и кумовства, сумеем мы выпестовать тех, кто завтра будет задавать тон в науке, технике, других сферах. Иные пути ведут к дальнейшему падению республики в пропасть кризиса, к краху.
Третье. На территории Семипалатинского полигона есть залежи отличных углей. Их нельзя использовать как энергетические — зато они прекрасно подходят как сырье для нужд умной и тонкой химии. Обладающие большим процентом летучих веществ, эти угли надо ввести в цикл ожижения или газификации, т. е., получать из них искусственные бензин, солярку, масла, битум, керосин, полипропилен, полиэтилен, вплоть до икры — всего более двухсот новых материалов. Кстати, развитие этого направления с неизбежностью влечет за собою развитие смежных отраслей — механообработки и других. И это легко объяснимо: для прессования пластмассы требуются более точные прессы. Нам, как говорится, сам Бог велел развивать названные отрасли. Это дало бы отличную возможность решить проблему обеспечения народного хозяйства жидким топливом, ряд других важнейших проблем... Кто-то возразит: «Но у нас ведь есть Тенгиз, есть программа «Тенгиз-Шеврон». Обещают свою помощь Иран, Россия. Да, обещают, и при этом названные страны будут преследовать прежде всего свои интересы, а не наши. Так что полагаться нужно в первую очередь на самих себя, собственные возможности. Д они у нас приличные. Дело в том, что казахская наука развивалась интенсивнее всего в той части, в какой была затребована военно-промышленным комплексом Союза ССР. Это привело к тому, что у республики ныне есть высокие достижения в металлургии и горном деле. Работы казахских ученых в указанных направлениях не уступают по глубине и масштабности исследованиям российских коллег. Вот и надо использовать с соответствующей отдачей для страны накопленные опыт и потенциал, не позволить им остаться под спудом и погибнуть. Используя ядерную энергию показательной демонстрационной АЭС, надо развивать народнохозяйственный комплекс, в частности взяться за переработку названных мною выше углей.
Почему я назвал атомную электростанцию, строить которую предложил в районе Курчатова, показательной демонстрационной? Здесь можно будет обобщать и использовать опыт возведения и работы лучших АЭС мира. Эта АЭС стала бы местом отработки и внедрения самых передовых идей и технологий своего рода. Перспективы блестящие. Надо лишь осознать их реальность и жизненную необходимость и, приняв соответствующие решения на правительственном уровне, браться за дело. Время не ждет. Образно говоря, каждый день промедления отбрасывает нас на много дней назад. Надеюсь, мои призывы и предложения, основанные на горячем желании исправить положение и трезвых расчетах, будут услышаны на разных уровнях, в том числе и самом верхнем. Нам надо незамедлительно превратить Курчатов из грозной силы разрушения, какой он был долгое время, в добрую силу созидания. Это нужно и всем нам, и будущим поколениям. Мы сумели использовать могучую энергию расщепленного атома во зло, так давайте же теперь употребим ее во благо!
А МОЖЕТ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ АКМОЛА?
Перенос столицы относится к числу тех вопросов, о коих говорят: семь раз отмерь — один раз отрежь... Можем ли мы со всей однозначностью заявить сегодня, что перенос столицы в Акмолу — решение «семь раз отмеренное»? Боюсь, что нет. Вот что доказывает, к примеру, убежденно А. Берггрин, кандидат биологических наук, ветеран альпинизма Казахстана, в номере газеты «Столица» за 15 июля 1994 года: «Президент Республики Казахстан обратился к Верховному Совету республики с призывом перенести столицу из Алматы в Акмолу «до конца нынешнего десятилетия» и подкрепил свое предложение четырьмя аргументами. Однако они не убедительны. И вот почему.
1. «Столица должна располагаться не вблизи от границы, а в центре государства».
При современной военной технике удаленность от границы не имеет значения. Ведь столько государств имеют столицы на границе, например: Финляндия, Эстония, Латвия, Швеция, Норвегия, Англия, США и еще много других и всюду это считатается их преимуществом, а не недостатком.
2.«Акмола расположена на стыке расселения основных этнических групп в Казахстане: русские преимущественно живут на севере, а казахи — на юге».
Этот аргумент логичнее считать как преимущество нахождения столицы среди коренного народа. Если условия проживания русскоязычного населения останутся такими, как сейчас, то стык с русскоязычным населением отойдет к северу от Акмолы.
3. «Алматы находится в сейсмоопасной зоне».
Это верно, но ведь строительство Алматы ведется по технически проверенному антисейсмическому методу.
4.«В городе остро стоят экологические проблемы».
Это напоминает принцип кочевников — когда скот выел траву вокруг аула, а местность в ближайшем окружении не выдерживает критики по загрязнению, то аул снимается и перекочевывает на новый участок степи. Не лучше ли просто навести порядок в городе и приучить к этому население?
(Следует отметить отрадный факт: с приходом нового мэра Шалбая Кулмаханова у нас во дворе две переполненные отбросами железные емкости, к вящему удивлению, оказались пустыми, к ним прибавилась еще и третья. Да и вокруг емкостей стало чисто).
Именно Центральный Казахстан является экологически худшим районом республики, и недаром в эти места при царизме и Сталине ссылали.
Чтобы не быть голословным, привожу таблицы экологических данных по этим двум городам (см. таблицу).
Алматы, благодаря наличию горно-долинной циркуляции воздуха с соседним Заилийским Алатау, получает с гор не просто чистый воздух, а целебный, содержащий фитонциды ельников и отрицательные ионы из горных рек и ручьев.
Первые обеззараживают организм человека, вторые нормализуют обменные процессы его организма.
Надо восстановить зону отдыха на горе Коктюбе и предотвратить разрушение телебашни оползнем. Происходит это из-за переувлажненности вершины горы — лес на ней разросся очень обширно. Для предупреждения аварии необходимо убрать лес, выкорчевать пни, вспахать почву и засеять травами, а также высадить красные и желтые тюльпаны. Ведь именно эта земля — их родина, а торгуют ими по всему земному шару Нидерланды.
Перспективы Алматы, на мой взгляд, таковы — здесь должен возникнуть международный оздоровительный центр на основе развития горного туризма и альпинизма в Заилийском Алатау.
Почему решили перенести столицу в худший район Казахстана? Есть у нас куда более привлекательные места, например, Павлодар. Посудите сами.
В Павлодаре — полное отсутствие сейсмической опасности. Стоит он в пойме большой реки Иртыш, отчего почва песчаная и свободна от валунных включений, что облегчает и удешевляет любые земляные работы, в частности, выборку котлованов под строительство, проведение подземных коммуникаций. По реке — сообщение с Семипалатинском и Омском. Иртыш создает большие возможности организации отдыха на реке непосредственно в черте города и поездок по реке.
Павлодар возник в 1720 году, а городом стал в 1861-м. Заводы: нефтеперерабатывающий, алюминиевый, тракторный, литейно-кузнечный, судостроительный, судоремонтный и др. Пищевая и легкая промышленность, ГРЭС и рядом завод ферросплавов. Несколько вузов, драматический театр, краеведческий и художественный музеи.