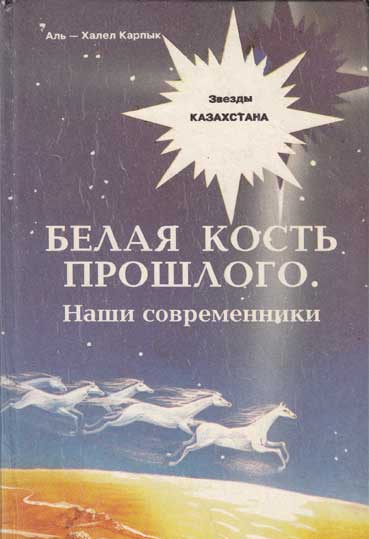Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 15
| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |
| Автор: | Аль - Халел Карпык |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1994 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Рост исторического самосознания народа в эпоху развитого социализма, его интерес к истокам национальных культур и традиций, к ключевым основам единения и дружбы различных наций, поиски факторов, объединяющих народы, а не разделяющих, заставили литераторов Казахстана по-новому взглянуть и на историю развития родной культуры, и на свою историю вообще. И здесь, опираясь на марксистско-ленинские принципы определения народности искусства, можно с полным основанием утверждать, что никакая национальная литература не может считаться полнокровной и полноценной до тех пор, пока она художественно не осмыслит основные этапы жизни и истории своего собственного народа. Вот почему закономерно стремление И. Есенберлина и других казахских — и не только казахских — писателей отобразить историю Родины в художественном произведении. И примечательно, что эта тенденция совпала с периодом наибольшего накала национально-освободительной борьбы народов Азии и Африки, проявляющих глубокий интерес к судьбам наших народов в прошлом и настоящем.
Не в угоду личному тщеславию, а для подкрепления мысли, высказанной выше, хочу процитировать слова прекрасного знатока казахской литературы и культуры З. С. Кедриной. На вопрос корреспондента газеты «Вечерняя Алма-Ата» (14 сентября 1974 г.): «Как вы расцениваете большой интерес казахских писателей к историческому жанру?» — 3. С. Кедрина ответила:
«Он естествен. Литература как бы возмещает упущенное наукой. Мухтар Ауэзов как-то заметил, что казахская история напоминает ленту, разорванную во многих местах. Это действительно так. Казахские писатели-историки — всегда колоссальные исследователи. Зачастую они создают правдивые исторические концепции раньше профессиональных историков. Это потому, что они тратят огромный труд на поиски документов и неопровержимых фактов. В ауэзовской эпопее меня поражает величественная фигура Кунанбая. Она жизненна. Долго считали, что весь этот образ является вымышленным. Однако недавно вдруг обнаружили в архивах бумаги, которые объясняют мотивировки его поступков, описанных в романе. Значит, Ауэзов, прежде чем создавать образ Кунанбая, познакомился со всеми этими документами за много времени до исследователей истории.
Примерно то же самое можно сказать о романах Ильяса Есенберлина и Ануара Алимжанова, опередивших историческую науку в целом ряде вопросов, касающихся оценки вожаков народа. Это можно было бы назвать предвидением, если бы не колоссальная работа по воссозданию каждого шага своих исторических героев».
Я еще раз подчеркиваю, что воспроизвожу эту цитату лишь потому, что в ней глубоко обобщены процессы, происходящие в современной казахской литературе, и сделано это со знанием дела, с пониманием.
В период, когда создавалась трилогия И. Есенберлина, еще отсутствовали строго научные исследования прошлого казахов, известным историческим событиям и лицам не были даны принципиальные оценки с классовых позиций, не были изучены с точки зрения марксистской методологии сложнейшие проблемы национальной истории за минувшие пятьсот лет (со времени распада Золотой Орды и империи Тимура и возникновения казахского ханства), хотя работа в этом направлении велась. Еще в тяжелые годы войны с фашистской Германией группа крупнейших ученых страны, оказавшихся в Алма-Ате и Ташкенте, провела огромную научно-исследовательскую работу и подготовила «Историю Казахской ССР». Но в силу ряда причин еще долгое время продолжались споры вокруг проблем исторического прошлого казахов, и единое мнение вырабатывалось медленно и трудно.
Главной причиной такого состояния являлось, на мой взгляд, отсутствие письменных источников. Казахские летописцы-историки Кадыргали Жалаири (1530—1605) и Мухаммед-Хайдар Дулгат (1500—1551) описали события, предшествовавшие своей эпохе, своему времени. Источниками могли служить лишь предания, легенды, эпические сказания казахов и письменные источники других народов, но они требовали скрупулезного изучения, сравнения, анализа с точки зрения достоверности и исторической объективности. Ильяс Есенберлин, один из первых, а среди писателей первым, проявив как отмечала критика, большую гражданскую и творческую смелость, взялся за эту сложнейшую и ответственную исследовательскую работу. И это позволило ему ввести в обиход неизвестный читателю материал, осветить пятивековую историю (с начала XV в.) казахской степи, лежащей на стыке Азии и Европы, раскрыть своеобразие пути развития казахского народа, упорно стремившегося к созданию своего государства после распада империи Тимура, причем консолидация разобщенных кочевых племен показана не изолированно, а как часть общего исторического процесса.
В трилогии И. Есенберлина, в этой художественной исторической хронике, выявлены и обобщены не только причины зарождения и укрепления казахского ханства, но и социально-экономические и политические мотивы сближения с Россией, вскрыто прогрессивное значение добровольного присоединения Казахстана к России в 1731 году. Широта и объемность исторического мышления, верность методу социалистического реализма, плодотворное использование фольклора, воплотившего и знания, и мудрость народа, позволили писателю охватить, казалось бы, неохватный материал — в рамки трилогии заключен не только период истории с XV века до середины XIX века, полный трагических событий (гибельные нашествия джунгар, китайцев и других чужеземцев, кровавые усобицы между племенами и родами из-за земли, между ханами и султанами за власть, борьба кочевников против жестокого гнета правящей верхушки). Устами сказителей, через предания писатель знакомит читателя и с предыдущими веками, с мрачной эпохой господства чингизидов.
Трилогия И. Есенберлина — значительное явление в казахской литературе не только потому, что она рисует перед читателями цельную картину истории казахов: в ней поставлены и разрешены общезначимые нравственные проблемы, — проблема мира и войны, борьбы за свободу, единения народов, — она проникнута гуманизмом.
И. Есенберлин одним из первых в казахской литературе ступил на стезю художественного осмысления решающих этапов в многовековой истории своего народа, создал художественные образы и дал смелые и в то же время основанные на принципах классовости и исторической объективности оценки деятельности многих степных ханов и султанов, сыгравших определенную роль в истории, а активным творцом истории представил народ.
Пройдет время, и, вполне возможно, другой прозаик создаст произведение, посвященное тем же событиям и тем же историческим личностям, которым посвящена трилогия «Кочевники», но будущий автор пойдет по уже проторенному пути, будет располагать тем обширным материалом, который впервые старательно собрал и изучил И. Есенберлин: устное творчество народа, особенности его быта, летописи и архивные документы — как казахские, так и соседних народов, все то, что дало ему заглянуть в сокрытое временем и заполнить белые пятна национальной истории.
Тем, кто ныне трудится над художественным отображением истории своего народа, значительно легче еще и потому, что в 1980 году, к 60-й годовщине Казахской ССР вышла пятитомная история Казахстана.
Трилогия И. Есенберлина — первое крупномасштабное, многоплановое произведение, первый роман-хроника в казахской литературе; она — новая ступень развития исторического жанра.
Быть может, путь хроникальности, избранный автором не всегда дает нам ощущение пристального взгляда в глубины истории, не всегда позволяет увидеть колоритные краски на расстоянии. Но, признаться, не это главное. Перед нами книга, автор которой сумел с большой эмоциональной силой нарисовать зримые картины сложнейших трагических и весьма значимых событий в истории казахского народа со времен распада Тамерлановой империи до середины XIX века. Книга, которая принесла известность автору не только у нас в стране, но и за рубежом; книга, которую смело можно назвать главной в творчестве Ильяса Есенберлина».
Первое, что нам необходимо сделать, — это, наверное, мысленно освободить заметки Ануара Алимжанова от налета обязательного в его времена «классового подхода». И тогда перед нами останется обширный и глубокий анализ жизненного, творческого пути и главного произведения Ильяса Есенберлина — его «Кочевников». Но при таком освобождении рецензии А. Алимжанова от сковывающей ее марксистско-ленинской методологии невольно возникает вопрос: «А не сковывал ли этот самый обязательный классовый подход творчество самого И. Есенберлина? Насколько объективен и искренен был он в показе импрама — толпы, народа как главного творца истории? Или в глубине души он считал, что белая кость — ханы и султаны сыграли более определяющую и главенствующую роль, чем народные массы?» Впрочем, у нас нет оснований сомневаться в том, что даже в условиях тоталитарного режима смелый, честный и талантливый художник, каким был Ильяс-ага, мог намеренно отходить от своих истинных взглядов и убеждений. Поэтому будем считать поставленные вопросы закрытыми.
Уместным был и рассказ, пусть и краткий, Ануара Алимжанова о жизненных университетах Ильяса Есемберлина. Это особенно актуально сегодня, когда приближается 80-летие со дня рождения этого большого мастера слова.
Генриху Манну принадлежат слова: «Книги требуют действий». Каких действий могут требовать от нас романы, входящие в знаменитую трилогию И. Есенберлина, если от многих главных ее героев нас отделяют многие столетия? Убежден, века — не помеха для тех, кто жаждет действий и знает, в каком направлении приложить свои силы. Да, даже у самых достойных представителей белой кости прошлого были черты, которые не могут не отталкивать нас — особая жестокость, способность не останавливаться ни перед чем ради достижения личных целей. Но в то же время они обладали чертами, которым не зазорно поучиться любому из нас,— решительность, отвага, целеустремленность. Разве не именно этих качеств требует с особой силой и наше время — время решительных, отважных и целеустремленных?!.
КАЛИЖАН БЕКХОЖИН
Уже при жизни признанный классиком казахской литературы, Калеке преподавал у нас в университете. Лекции его, как и книги, были для студентов подлинным откровением.
Несколько слов для тех, кто слабо знаком с творчеством К. Бекхожина. В годы сталинского террора он написал историческую поэму «Науан», посвященную жизни и деятельности героев национально-освободительного движения казахов, — хана Кенесары, батыра Наурызбая и их сподвижников. Тоталитаризм не прощал таких проявлений свободомыслия и свободолюбия. Поэт подвергся ожесточенным гонениям. У него возникли большие проблемы с работой, изданием книг. «Решить» эти проблемы можно было бы, отступившись от своих гражданских убеждений и творческих целей. Калеке легкой жизни во лжи предпочел тяжелую — в правде. Зато и произведения его — «Аксак Кулан», «Степной комиссар» и другие зачитывались, что называется, до дыр и признавались классическими, еще не утратив запаха свежей типографской краски.
Книги К. Бекхожина отличались не только острым социальным звучанием, но и тонким лиризмом. Пожалуй, главной лирической темой Калеке были взаимоотношения человека и природы. Тонко и проникновенно воспевал поэт красоты родного Баянаула, вдохновившего поэтическую музу Султан-махмуда Торайгырова, Олжаса Сулейменова и его самого.
Становление Калижана как поэта проходило в Павлодарской области, где он родился. В ту пору она была одним из видных центров духовной культуры в Казахстане. Молодой сочинитель встречался с такими яркими личностями, как Жаяу Муса, Майра. Впечатления от встреч сопровождали и воодушевляли Калижана Бекхожина всю последующую жизнь. Первые свои стихи он опубликовал в местных газетах Павлодарщины.
Ну, а путевку в большую поэзию, если можно так выразиться, дал Калижану Сакен Сейфуллин. Встреча с этим гигантом духа стала поворотным пунктом в творческой биографии Бекхожина, помогла его окончательному оформлению как гражданина и поэта.
Бекхожин оставался всегда интернационалистом в многогранном своем творчестве. Его перу принадлежат великолепные переводы на казахский язык произведений Пушкина, Лермонтова, Байрона, Некрасова, Навои, других корифеев поэзии.
В нынешнем году Калеке исполнилось бы восемьдесят лет. Это глубоко почитаемый многими человек, поэт и педагог, а для меня — еще и земляк. Бывая в Павлодаре, я навещаю улицу Володарского, где прошло мое детство. На этой улице жил и Калеке. Здесь, на одном из домов, появилась не так давно мемориальная доска, извещающая о том, что на этой улице жил народный писатель Казахстана Калижан Бекхожин.
... Я останавливаюсь у мемориальной доски и веду с Калеке мысленный диалог. Рассказываю классику, как живо раскупаются его книги. Повествую об изменениях, произошедших за последнее время в Казахском государственном университете, где он преподавал многие годы. Делюсь вестями из столицы, из других ближних и дальних уголков нашей необъятной страны. Калеке внимательно слушает и всматривается зорко в окружающий мир. Калеке может быть доволен: свобода, которую он так смело воспевал в своих поэмах в годы засилья жестокого режима, пришла, наконец, на эти улицы вместе с его, Калижана Бекхожина, книгами. И теперь поэт всецело мог бы отдаться главной своей стихии — лирике.
АБЫЛХАН КАСТЕЕВ, ОСНОВАТЕЛЬ КАЗАХСКОЙ ЖИВОПИСИ, ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК Казахстана
Неведомо, как отнеслись бы ханы и султаны и, в частности, Кенесары-хан к портрету «Кенесары» кисти Абылхана Кастеева, но ходжи безоговорочно осудили б святотатца. И было бы за что: известный всей Степи и далеко за ее пределами казахский правитель, как живой взирает с полотна... Да за такое доподлинное изображение человеческого лица, пусть и ак суйека (белой кости)!.. Да-а, похоже, мы несколько забежали вперед. Вернемся к самому началу.
Абылхан был настоящим художником, еще не зная, что такая профессия существует. Первые свои университеты он проходил на старой мельнице, где знакомился с невесть как попавшими сюда иллюстрированными изданиями. Этот художественный мир увлек паренька и оказался для него куда более заманчивее мира реального.
Но мир реальный не желал принимать без боя увлечения юного казаха. Ибо в том мире — а был он мусульманским — запрещалось изображение человеческого облика. А именно его хотелось запечатлевать снова и снова на холсте начинающему художнику. Абылхану становилось тесно не только в рамках мусульманского табу на живописание портретов, но даже на просторах родного аула, где все было изучено вдоль и поперек. Непоседливого юношу манила даль неизведанных миров. Первым таким миром на его пути оказался Джаркент, где Абылхан постиг азы своей будущей профессии и призвания. И вот — занятия в художественной студии Хлудова, где, самозабвенно занимаясь «греховным для мусульманина делом», Кастеев выдает свой «Групповой портрет». Затем Абылхан на свой страх и риск едет в Москву и, замирая от восторга, бродит по залам Третьяковской галереи.
К тому времени в Казахстане начинают практиковать проведение художественных конкурсов и выставок. На одном из таких представительных смотров выставляет свои работы и Кастеев. И пришел первый успех. Ценители искусства заметили картину Абылхана. На ней, на фоне родной природы, был изображен чародей казахской культуры Абай.
Наверно, у каждого крупного таланта был в жизни человек, помогавший определиться в жизни.
Таким человеком для Абылхана Кастеева явилась жена известного писателя Фурманова. С ее легкой руки Кастеев и попал в художественную среду, которая помогла его становлению. Ну, а высоким духовным и творческим ориентиром для молодого даровитого казахского живописца были картины замечательных русских мастеров — Левитана, Перова, Репина и других.
Перенимая кое-что у корифеев и упорно работая над созданием индивидуального почерка. Абылхан начинает добиваться серьезных успехов. На полотнах Кастеева зримо предстает все богатство и многообразие окружающей действительности. Здесь и блистательные образцы пейзажной живописи — «Долина Таласа», и прекрасные портреты Абая, Чокана Валиханова, Жамбыла, Амангельды Иманова, и великолепные тематические полотна — «Капчагайская ГЭС», целый ряд своеобразных работ. Становление Кастеева-живописца было тесно связано с зарождением станкового искусства Казахстана. По сути, Абылхан-ага явился зачинателем казахского профессионального изобразительного искусства (вот к чему привело «греховное» увлечение юности).
Кастеев выполнял свои работы в технике масла, акварели, рисунка карандашом и гуашью. В запасниках Государственного музея бережно хранятся его творения, часть из них — выставлена в залах. Возле полотен Абылхана-аги всегда людно. Необычайно теплые, жизнелюбивые работы большого мастера не подвержены колебаниям переменчивой моды. Они всегда — в центре внимания посетителей.
Стоило побывать в Государственном музее искусств на открытии выставки, посвященной 90-летию со дня рождения Абылхана Кастеева. Она состоялась в начале нынешного года и были представлены на ней портреты Кенесары, Абая, Чокана Валиханова, Жамбыла, Амангельды Иманова, Маншук Ма-метовой, пейзажные и тематические полотна, выполненные в разных техниках. На открытии юбилейной выставки выступила вдова художника Сапыш-апа. Воспоминаниями о нем поделились известные художники. Был показан фильм о жизни и творчестве Абылхана-аги.
ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ И ВЫСОКАЯ ПОЛИТИКА
Выдающийся поэт, общественный, политический деятель...
Личность Олжеке поистине многогранна. А сегодня разговор об одной грани — участии в высокой политике. Часто приходится слышать: поэту противопоказано заниматься политикой, его дело романтически вздыхать и укладывать жизнь в размеренные рифмы. С рифмами у Олжаса Сулейменова все в полном порядке. Что касается политики, то как хорошо, что он занимается ею! Ибо она для Олжеке не самоцель, как для многих, а средство помочь родной стране в ее непростом становлении и развитии. В этом смысле политическая деятельность Олжаса Сулейменова становится, я б сказал, высокопоэтичной, так как лишена корысти и карьерных интересов и направлена на решение общенародных задач, ведется с присущими Олжеке вдохновенностью и высоким ораторским мастерством. Он действительно хочет помочь своему государству и его многонациональному народу определиться, выбрать верные направления в поступательном движении вперед.
Каковы же главные постулаты Сулейменова-политика? Если я не ошибаюсь, первый — исторический: выбор, сделаный в свое время Абулхаир-ханом и Аблай-ханом в пользу России в качестве главного внешнеполитического приоритета Казахстана, был оправдан и мудр. Любой иной выбор мог бы привести Казахское государство и народ к гибельным последствиям или, как минимум, — огромным и даже невосполнимым потерям.
Оппоненты возражают Сулейменову: «В чем же правильность этого выбора, если Россия сделала Казахстан на долгие десятилетия своей колонией со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями?» Да, отвечает оппонентам политик-поэт, в эпоху Петра I, Екатерины II отношения между Казахстаном и Россией и не могли быть иными. Но даже при таком жестком раскладе русско-казахский союз был в конечном итоге выгоден для Казахстана, как, естественно, и для России, так как в противном случае она просто-напросто не пошла бы на этот союз. И не видеть сейчас тех реалий может лишь политик с черной повязкой предубежденности на глазах... Однако шло время, и соотношение метрополия—колония стало невыгодным для обеих сторон. И произошло то, что мы называем суверенитизация Казахстана (как и других бывших союзных республик). Что же выгодно ныне для Казахстана во взаимоотношениях с внешним миром вообще и с Россией — в частности?..
Постулат второй Сулейменова-политика — современный: Казахстану нужно завязать паритетные отношения как на Западе, так и на Востоке, не утрачивая при этом, ни в коем случае, старых связей. Несомненно, Казахстан никогда уже не будет «младшим братом России», но почему бы ему не стать ее надежным другом и партнером. Причем, по Сулейменову, — это не благое пожелание, а жизненная необходимость. И если на то пошло — даже суровая необходимость. Растущая экономическая нестабильность, от которой страдает Россия и в еще большей степени — Казахстан, во многом — от утраты и резкого разрыва многолетних хозяйственных связей между двумя большими республиками-соседями. И заменить эти контакты невозможно ничем! Единственный выход — заново налаживать их. На какой основе? На взаимовыгодной, устанавливая прямые связи между хозяйствующими субъектами, без судорожных оглядок на пресловутый и изживший себя Центр в его прежнем административно-командном качестве. Иными словами, федеративный союз себя уже исчерпал, показал свою несостоятельность за годы советской власти. И нужен союз конфедеративный, который надежно защитил бы интересы обеих сторон. Под конфедерацией Сулейменов подразумевает союз независимых государств, имеющих каждое свое гражданство, свою конституцию, парламент, национальную валюту, армию и в то же время — систему договоров, защищающих единые интересы. Это то, к чему настойчиво зовет, к чему призывает Сулейменов-политик. От чего он предостерегает? От национал-радикализма в любом исполнении — русском ли, казахском ли, либо любом ином. Особая опасность национал-шовинизма заключается в том, предупреждает политик-поэт, что он, как правило, рядится в пышную тогу патриотизма и потому с трудом поддается разоблачению. И Сулейменов говорит о необходимости отличать патриотизм истинный от мнимого. Того, что голосист, велеречив, многоречив и крайне опасен прежде всего для тех, чьи интересы он, якобы, представляет и защищает. Ведь национал-радикализм и национал-патриотизм как своего рода детонатор: сработал — и взорвано то, что нарабатывалось десятилетиями и столетиями: дружба народов, политическая стабильность, благополучие многих миллионов людей.
Олжас Сулейменов активно борется с национал-радикалами и национал-патриотами. Борьба эта даже для Олжеке, при известных всем его энергии и авторитете, непроста. Дело в том, что у политических оппонентов Сулейменова есть мощный «козырь». Они очень громко и довольно дружно обвиняют его в забвении и предательстве интересов родной нации, вскормившего его народа, со страниц больших изданий вопрошают с притворным сочувствием: «Что случилось с тобою, Олжеке?» и так далее и тому подобное, в меру своих, порою недюжинных и достойных лучшего применения артистических способностей. Просто порядочному человеку трудно было бы что-либо противопоставить столь хитроумному приему. Не будешь же, пытаясь опровергнуть ловко «навешанные» обвинения, бить себя в грудь и доказывать, что, мол, патриот. Бесплодно и глупо. Что касается Олжеке, то тут особый случай, о коем говорят в обиходе: на него где сядешь, там и слезешь. Остроумный оратор, обладающий образным мышлением и ярким выражением мыслей, Олжас Сулейменов умеет дать отпор политическим противникам в любой ситуации. Нередко он прибегает к разящему оружию иронии и сарказма. А владеет им Олжеке виртуозно. Так что обвинения в «непатрио-тизме» после публичных выступлений О. Сулейменова разлетаются в пух и прах. Правда, суровых его обвинителей тоже не просто обескуражить: многие из них, похоже, и вовсе не читают газет и не смотрят телевизор или делают вид, что не читают и не смотрят, а только пичкают прессу и телевидение собственной пропагандистской стряпней.
Во всяком случае, нападки на Сулейменова возобновляются.
Постулаты Сулейменова-политика, как исторический, так и современный, верны и точны. Не видеть этого может лишь тот (и тут мы чуточку повторимся), кто политически близорук, слеп или кто осознанно ставит личные политические амбиции выше истинных интересов нации, которые он с таким рвением «защищает», на самом деле предавая и ставя под угрозу. Знаю, что, защищая Олжаса Сулейменова, который не нуждается в защите, я вызываю на себя критический огонь ревнителей национальных интересов. В «оправдание» Олжеке и себя лично приведу лишь один контраргумент: пусть скажут оппоненты, в какой стране и когда национал-радикализм и национал-патриотизм приводили к подлинному триумфу? Та же великая Германия тридцатых годов нынешнего века поддалась этому недугу и какое-то время упивалась победами национал-шовинизма. Чем обернулась «коричневая чума» для самой Германии? Или даже такие хрестоматийные доводы не способны убеждать людей, зацикленных на идее «исключительности»?!.
Продолжим разговор о Олжасе Сулейменове. Он не oгpaничивается выдвижением теоретических постулатов, борьбой с национал-радикалами и национал-патриотами. Ведет большую практическую работу по созданию и направлению деятельности организаций, стабилизирующих политическую обстановку в Казахстане и вырабатывающих, обосновывающих наиболее гуманные и мирные пути развития республики. О. Сулейменов один из тех, кто стоит у истоков создания широкоизвестной ныне партии «Народный Конгресс Казахстана». К слову, на пленуме координационного комитета этой партии Сулейменов и выдвинул предложение вынести на обсуждение общества идею о будущем конфедеративном договоре между Казахстаном и Россией. Сулейменов-политик неустанно повторяет главную свою мысль: суверенитет, обретенный Казахстаном, пока условная вещь и необходимы большая осмотрительность, рассчитанная стратегия движения вперед, чтобы суверенный Казахстан заявил о себе миру своим, внушающим доверие и уважение голосом, а не подголосками амбициозных политиков, способных довести многонациональную страну до беды.