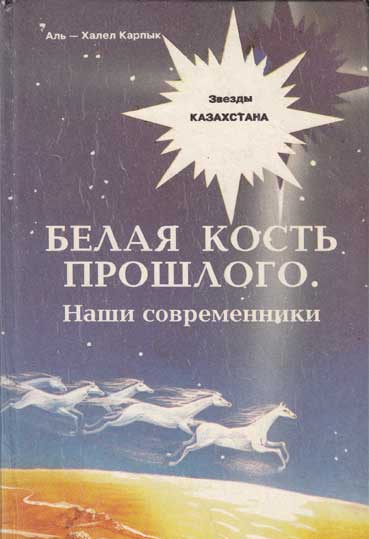Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 9
| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |
| Автор: | Аль - Халел Карпык |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1994 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
ХАН СРЕДНЕГО ЖУЗА КАЗАХОВ УАЛИ (1781-1819)
В годы пугачевского восстания султан Уали всячески выказывал свою преданность правительству России. Поэтому, после смерти знаменитого Абылай-хана, оно решило провозгласить Уали ханом Среднего жуза. Мнение русского правительства оказалось решающим. И хотя далеко не все племена и роды Среднего жуза считали Уали достойным преемником Абылая, Уали был поднят знатными людьми Жуза на белой кошме в знак признания его ханом. Теперь Уали ожидала торжественная церемония утверждения его в ханском звании и приведение к присяге ее императорскому величеству Екатерине II.
Как проводились церемония и приведение к присяге? Во дворе крепости святого Петра собрались избранные люди. Стоя на специально воздвигнутом возвышении, представитель царских властей объявил Уали ханом Среднего жуза. На русском и татарском языках был прочитан текст присяги. Уали повторил его, опустившись на колени, поцеловал Коран и скрепил присягу своей печатью. После этого на голову Уали была возложена шапка, надеты на него шуба и сабля — знаки ханского достоинства. Загрохотали пушечные и ружейные выстрелы, грянули литавры, запели трубы, склонились до земли русские знамена.
Возможно, султаны и старшины родов Среднего жуза с большим энтузиазмом поднимали бы Уали на белой кошме, если бы знали, что чествуют одного из последних казахских ханов; а русские власти, напротив, с меньшей торжественностью утверждали Уали в ханском звании, если б могли предугадать: именно из-за его «перекосов» (хотя и не только из-за них) придется позже принимать решение об упразднении в степях Среднего жуза ханского звания.
Уали удалось стабилизировать обстановку в своих владениях. Правда, стабильность эта была относительной. Да, в Среднем жузе происходило при Уали и благодаря его политике меньше распрей, чем в других жузах. Но в то же время Уали увлекался взятками и поборами, грабил идущие через его земли торговые караваны. Мздоимство Уали-хана вынудило часть казахских родов перекочевать вглубь России, на земли Томской и Тобольской губерний.
Для того, чтобы ослабить влияние Уали в Жузе, российское правительство прибегло к своеобразному ходу: утвердило в Среднем жузе... еще одного хана — Бокея. Разумеется, не только мздоимство Уали, но и нечто более серьезное толкнуло царское самодержавие на этот шаг. И эта была тактика лавирования между Россией и Цинской империей (Китаем), которую успешно проводил Абылай-хан и которую пытался проводить его последователь, Уали-хан... Двоевластие действительно ослабило позиции Уали в жузе. Но Бокей, непродолжительное время побыв у власти в восточной части Жуза, умер. Через два года после него, в 1819 году умер и Уали.
«Ханы умерли, да исчезнут ханы», вздохнули свободнее российские верхи. Отныне ими было решено упразднить ханскую власть в Среднем, как до этого, в Младшем жузе. Казахские феодалы оказались проворнее, успев утвердить в ханском звании сына Уали, Убайдуллу. Но ему уже не суждено было править. С момента введения «Устава о сибирских киргизах» М. М. Сперанского в Среднем жузе, как и во всей казахской степи, начали действовать новые порядки. Так что Убайдулла, проявлявший к тому же неповиновение, был сослан в российский город Березов.
Уали-хану не удалось стать достойным приеемником Абы-лай-хана. Но он интересен как своеобразная личность, ставшая последним ханом Среднего жуза казахов; как дед Чокана Валиханова. Этот знаменитый ученый носил фамилию по деду, Уали. И она звучит правильно так — Уалиханов. А поскольку русскоязычные читатели привычны к — «Валиханов», в таком варианте фамилия пусть и употребляется в дальнейшем, в следующих очерках.
ХАНША СРЕДНЕГО ЖУЗА АЙГАНЫМ
Младшую жену хана Уали звали Айганым. После смерти мужа ей и ее сыновьям дали ставку в Сырымбете. В официальных бумагах ее продолжали именовать ханша Айганым. В отличие от Уали, пытавшегося вести двойную политику между Россией и Цинской империей (Китаем), Айганым твердо придерживалась пророссийского курса. Она не только не поддавалась на уговоры войти в число политических противников большого северного соседа, но и активно боролась с ними. Разумеется, эта борьба не была бескорыстной. Айганым через верных людей давала знать Петербургу о своем усердии. И там оно было замечено. Сам Александр I подписал указ о строительстве для ханши Айганым богатого дома и мечети на избранных ею землях.
Все, что делала Айганым, было типичной борьбой за власть и влияние в степи. В частности, пасынок ее, Убайдулла, был отправлен в ссылку в русский Березов по доносам сановной мачехи. Айганым боялась, как бы этот несколько взбалмошный султан, к тому же поднятый после смерти Уали на белой кошме в знак признания его ханом, не стал опасен для нее и ее сыновей. Поэтому, зная о происках Айганым, Убайдулла, вернувшись из ссылки, поехал не к ней и не к Чингису, своему брату по отцу и сыну Айганым, а направился прямиком к их заклятому врагу — мятежному султану Кенесары.
По этим сведениям, может создаться представление о Айганым как о женщине деспотичной, с узким жизненным горизонтом. Такое представление было бы ложным. В действительности Айганым была образованным для своего времени человеком. Она знала превосходно русский, а также несколько восточных языков, отличаясь яркими дарованиями поэта и политика. К тому же она была тонким человеком, светской красавицей. Так, появившись однажды в Петербурге на балу у императора Александра ханша Айганым сумела обворожить не одного русского гвардейского офицера. Они принялись ухаживать за ней, рассыпаясь в любезностях...
Да, кстати, как был выполнен указ Александра I о строительстве для Айганым и ее сыновей дома и мечети ценою в пять тысяч рублей (большие деньги по тем временам)? Со всем усердием, но с отклонениями от требований ислама: мечеть была обращена фасадом не в ту сторону. Айганым проявила твердость, попросив у русского начальства дополнительных ассигнований на постройку в выбранном ею Сы-рымбете, кроме указанных дома и мечети, - школы, бани сараев во дворе ее дома и пристройки-гостиной к этому дому и кое-каких других усовершенствований. Все это было сделано. Само собой разумеется, развернута была в нужную сторону и мечеть.
В своем новом поместье Айганым пожелала заняться хлебопашеством. Ей прислали семена, необходимые орудия. Целина еще только была засеяна рожью, а уже и мельница поднялась в Сырымбете. Вот что значит быть верной Российской Империи и зреть в корень, вернее, в вошедший к тому времени в силу Устав М. М. Сперанского, по коему за примерное занятие хлебопашеством можно было ожидать хорошей награды.
Что и говорить, не хлебопашество было конечной целью устремлений Айганым. Она просилась в Петербург, дабы «иметь неоценимое удовольствие лицезреть августейшею монарха». И если верить досужим сплетням, на том самом великосветском балу не только гвардейские офицеры — сам Александр I обратил благосклонное внимание на киргиз-кайсацкую ханшу... Давайте будем правильно понятыми, Айганым вовсе не была кокоткой: все, что ее интересовало — были усиление влияния ее и ее сыновей в Степи, их образование, достоинство рода Валихановых. И в достижении этих целей Айганым вполне преуспела. Она имела влияние не только в родных степях, но и на русское начальство. Она имела в российских канцеляриях своих доверенных людей; собираясь в Россию по делам государственной, на ее взгляд, важности, брала у тех же Омска и Тобольска прогонные деньги. Строила свои отношения с колониальной администрацией на взаимовыгодных началах. Ханша Айганым до последнего пользовалась ханской печатью Уали. И хотя, после смерти последнего, она должна была передать печать кому-либо из сыновей, пользование ею ханши Айганым не воспринималось как самодурство. Все — в том числе и российское руководство — видели, насколько значителен авторитет Айганым среди жителей Среднего жуза. И все же... он не был непререкаемым. Мятежный султан Кенесары — племянник ее покойного мужа Уали — за связи Айганым с Россией, с которой он воевал, разорил поместье в Сырымбете. Благо, самой Айганым во время налета дома не было...
Юного Чокана Валиханова потрясло разграбление родственниками чудесной бабушкиной усадьбы. Он был влюблен в этот дом, стоящий у подножия невысокой горы, рядом с рощей, неподалеку от озера. Здесь бабушка Айганым рассказывала Чо-кану о его легендарном деде Абылай-хане, сказки; пела песни. Здесь было столько удивительных старинных вещей! И теперь все это разорено... Вот они — вековечные степные междоусобицы, губительные распри!
... Уже восемнадцатилетним приехал Чокан Валиханов осенью 1853 года в этот же дом на похороны бабушки Айганым, ушедшей из жизни на семидесятом году от рождения. Не стало любимой бабушки Чокана, помогшей ему многое понять о себе, о своих предках, о своем народе.
— Пусть произрастают ее ветви! — раздавалось вокруг печального Чокана.
... Да, наделенная блестящими дарованиями степного правителя и дипломата, ханша Айганым была еще и бабушкой Чокана Валиханова, одного из крупнейших казахских просветителей и ученых.
СУЛТАН СРЕДНЕГО ЖУЗА КАЗАХОВ ЧИНГИС
Чингису, сыну Уали и Айганым, было двадцать лет, когда мать привезла его в Омск. Великовозрастный султан со скрежетом зубным грыз здесь гранит науки — учение давалось ему нелегко. Он даже самовольно уехал домой. Мать возвратила его обратно. В конце концов, Чингису удалось, пусть и с великими трудами, получить приличное образование. И он был выбран старшим султаном созданного к тому времени Аман-Карагайского округа.
В отличие от матери, бывшей ханшей, скажем так, по наследству, Чингис числился на службе у российских властей по выборам. В остальном он в точности повторял линию матери на услужение русскому начальству. Чингису было нетрудно числиться у него на хорошем счету, поскольку стараниями матери и собственными, он получил хорошее русское образование и воспитание.
Руководство поручало старшему султану собирать пословицы, сказки, песни казахов, отыскивать в окрестностях камни, развалины с надписями и помечать на бумаге связанные и ними предания. Чингис ревностно исполнял поручение.
Кроме названного выше, он подготовил множество предметов казахского быта для международного конгресса ориента-листов-востоковедов, специалистов по культуре и языкам восточных народов, который проходил в российской столице.
Султан Чингис построил на собственные средства школу для детей казахов — первую такую школу возвела у себя в Сырымбете его мать Айганым. Своей деятельностью на ниве просвещения и науки старший султан Аман-Карагайского округа подготавливал деятельность своего сына — будущего большого просветителя и ученого.
Несколько слов о политической деятельности Чингиса. В пору его ага-султанства в Степи широко разгорался пожар восстания его близкого родственника Кенесары-хана. Чингис не поддерживал его, но и выступить против грозного родича ему было трудно, как ни склоняли его к этому русские власти. Безуспешно пытаясь найти какой-либо компромисс в этой весьма щекотливой и затруднительной ситуации, ага-султан едва не оказался в прямом смысле между двух огней. Морально.) конечно, он был на стороне России. Кенесары не поддерживал, считая его в крайней степени властолюбцем и делающим все из стремления захватить и удержать в своих руках власть над всеми казахами. Но как открыто выступить против сильного и агрессивного Желтого клеща (Сары Кене), который жестоко отомстит за неповиновение и уже успел разорить усадьбу матери Чингиса? Попытки остаться в стороне вызвали резкое недовольство российского начальства, подозрение в тайной поддержке Кенесары. Волей-неволей Чингис выступил против Кенесары и, получив золотую медаль, в четвертый раз был избран ага-султаном своего округа.
В резиденции старшего султана и родился первенец Чингиса и Зейнеп. Крошечный султанчик живо напомнил всем великого прадеда. «Аблай!» — восторгались родные, заглядывая в колыбель. И в детстве маленький Чокан действительно проявлял ханские замашки и повадки. Говорят, он даже ни во что не ставил отца, старшего султана с его золотой царской медалью, слывшего благовоспитанным человеком. Мог в присутствии Чингиса браниться, передразнивать его.
Жестокость юного султана — правда или плод чьей-то досужей фантазии? Известно, во всяком случае, Чингис видел в Чо-кане будущего большого степного политика. А она в те времена была тесно связана с постоянными междоусобицами. Нравы и обычаи среды были таковы, что только тот, кто был способен повелевать и попирать, мог завоевать и удержать власть. Да, сам Чингис был достаточно благороден и добр, но что значил он как правитель по сравнению со своим дедом Абылаем, у которого благородство и доброта были отнюдь не на первом месте! Так что Чингис, возможно внутренне страдая от дерзости своего отпрыска, в то же время мирился и даже культивировал ее в нем. Но это — всего лишь авторские предположения.
Время шло. И родичи стали замечать: в юном Чокане дерзость все больше уступает место уму и хитрости. Вновь впору было воскликнуть: «Аблай!» Однако времена были уже не те: второй Абылай вовсе не требовался России, взявшей к тому времени полную власть над казахской Степью. Пожалуй, ей нужнее был второй Чингис — услужливый и исполнительный. Это понимал и сам старший султан. Так Чокан узнал о том, что скоро будет отправлен на учебу в далекие края, в Россию. Как и в свое время у отца, у молодого султана это известие не вызвало большого энтузиазма.
Но пока что можно было не беспокоиться. Жизнь шла своим, давно заведенным в степи чередом. В богатой юрте ага-султана звучали песни, славящие великого Абылая, хана Уали, самого султана Чингиса. Певцы получили ожидаемое щедрое вознаграждение. И все были довольны. Казалось, так будет всегда. И перспектива отъезда на чужбину представлялась чем-то нереальным.
Когда Чокану исполнилось двенадцать лет, его, как и в свое время отца, повезли на учебу в Омск. Правда, в отличие от Чингиса, Чокан начал делать быстрые успехи. Блеск его дарований был замечен сразу.
... Эго так. Но почему же столь добросовестно рассказано о Чингисе, не отличавшемся особыми дарованиями?.. Без него не было бы Чокана — раз, без его предшествующей деятельности Чокан мог не состояться как просветитель и ученый — два. Чингис был как бы последним витком спирали, по которой чингизид и аблаид Чокан Валиханов взошел наверх и заблистал «звездою» просвещения и науки.
СУЛТАН СРЕДНЕГО ЖУЗА КАЗАХОВ, А ВПОСЛЕДСТВИИ - ХАН ВСЕХ ТРЕХ ЖУЗОВ КЕНЕСАРЫ (1841-1847)
В начале девятнадцатого века политика колонизации казахских земель царской Россией достигла своего апогея. Кочевья казахов все более сужались, переселение казаков в плодородные места Казахстана нарастало. Естественно, местное население роптало, невольно сплачиваясь вокруг воинственных потомков Абылай-хана. Они пытались противопоставить какие-то ответные действия откровенному захвату царизмом Степи.
Брат главного героя данного очерка султан Саржан с объединенными отрядами повстанцев выступил против колонизаторов, но, оттесненный их карательными отрядами, ушел в Кокандское ханство, где был злодейски убит вместе с Есенгельды, еще одним сыном Касыма-торе. От руки «братьев по вере» пал и сам султан Касым.
Кенесары-султан, считавший себя продолжателем дела своего знаменитого деда, Абылай-хана, ставил главной целью восстановление целостности Казахстана, раздробленной колониальной политикой России. А поскольку русский царизм в силу этой самой политики всячески препятствовал объединению Казахстана, Кенесары волей-неволей приходилось выступать против нее, давая повод объявить себя «мятежным султаном», «степным разбойником» и прочее и прочее. Вначале Кенесары пытался «полюбовно» решить сложные взаимоотношения с северным гигантом. Об этом свидетельствуют его письма в адрес императора Николая I, других высокопоставленных лиц России. Тони содержание этих писем были вполне лояльными по отношению к могучему соседу и в то же время — твердыми и независимыми. Эти послания игнорировались. Степь знала, что Кенесары не получает на них ответов. Это било по самолюбию гордого пращура Чингиз-хана и внука Абылай-хана. Обуздывая нарастающие разражение и гнев, Кенесары слал новые письма, скажем так, просительно-требовательного содержания. И лишь убедившись, что самые настойчивые его дипломатические усилия ни к чему не приводят, султан Кенесары дал волю кипучему и агрессивному своему нраву, прибегнув к военному давлению на Россию. Ответные военные действия не замедлили себя ждать. Вспыхнув, пожар восстания Кенесары охватил значительную часть Степи.
Таким образом, намерение объединить под своим началом силы всех трех казахских жузов, продолжая оставаться главной целью деятельности Кенесары, стало для него одновременно и основным средством — для борьбы с могучим северным соседом. Кенесары не удалось добиться объединения разрозненных феодальных групп, родоплеменных подразделений Старшего, Среднего и Младшего жузов. Степная аристократия разделилась на две враждебные группировки: одна, патриотически настроенная, всеми силами поддерживала мятежного султана, другая, которой кое-что перепадало от колониальной администрации, пошла против него. Подобных предателей его интересов, Кенесары, независимо от того, были ли они султаны, бии или старшины родов, карал сурово, порою и жестоко. Недаром он получил прозвище, производное от его имени — «Кене-хан» («Хан Клещ»). Отсюда видно, насколько лишены основания обвинения его в национализме: ведь зачастую столь беспощадный со своими, он бывал снисходителен с чужими — в частности, с русскими военнопленными. Некоторые из них даже служили у него, проявляя верность и самоотвержение. Назовем имя беглого солдата Николая Губина, который в бою отряда Кенесары с людьми бия Жангабыла, рискуя собой, спас жизнь любимого брата «Кене-хана» — султана и батыра Наурызбая.
Моральная трагедия Кенесары заключалась в том, что среди тех, кто находился в противоборствующем лагере, были его близкие: родные дядья — сыновья Абылай-хана султаны Али и Суюк, другие родственники. Большая часть султанов, особенно Среднего жуза, все же поддерживала Кенесары. Численность его войск достигала в некоторые периоды двадцати тысяч бойцов. Вели их вместе с Кенесары восемьдесят с лишним султанов, биев, старшин родов — внушительная сила! Правда, состав войск Кенесары был подвижным и переменчивым. Их покидали одни племена и роды, на их место приходили другие. Все зависело от того, чьи интересы и как представлял на том или ином этапе восстания Кенесары, от соотношения сил в ходе боев. Понимая, как важно упрочить свой авторитет в Степи, заставить людей поверить и пойти за собой, Кенесары со своими отрядами решил взять штурмом форпост царской России в казахских пределах — Акмолинскую крепость. Благодаря применению хитроумной и гибкой тактики это удалось. Крепость была превращена в дымящиеся развалины, а влияние Кенесары значительно возросло. Многие из колебавшихся до сих пор пошли за ним.
Среди тех, кто пошел под знаменами Кенесары, были казахи, русские, поляки, татары, узбеки, киргизы и другие. Восстание продолжало расти, шириться, превратившись в одно из крупнейших выступлений народных масс во главе феодальной верхушки против колониальной политики российского самодержавия, засилья кокандских беков за всю историю Степи. Прелюдией к нему и ко всем последующим военным действиям и были упоминавшиеся осада и сожжение весной 1838 года Акмолинской крепости. Затем пламя восстания, разгораясь все сильнее, перекинулось на Тур-гай. По мере продвижения к границам России под знамена Кенесары становилось все большее число воинов.
Летом 1841 года восставшие захватили несколько кокандских крепостей... Здесь Кенесары утолил и жажду личной мести за злодейское убийство своего отца, Касыма-торе, братьев Саржана и Есенгельды. Будучи настроенным непримиримо по отношению к коварным кокандским правителям, Кенесары поддерживал вполне дружеские отношения с их соседями — хивинским ханом и бухарским эмиром.
Осенью того же 1841 года сбылась давняя честолюбивая мечта Кенесары — представители всех трех казахских жузов подняли его на белой кошме, провозгласив своим ханом. Казахское ханство было восстановлено!
Новый всеказахстанский хан Кенесары преобразовал государственное устройство своих земель. В созданный им ханский совет — высший совещательный орган вошли популярные в народе султаны, бии, старшины родов, батыры. Это были люди, преданные идее объединения и независимости Казахстана. Между Кенесары с его ханским советом и народом стояла специальная служба управления, которая следила за тем, как доходят до аулов и выполняются ими предписания верхов. Здесь проявилась некоторая демократичность Кенесары. Он активно привлекал к делам управления людей, подчас низкого происхождения, но проявлявших организаторские умения, дипломатические способности, личную отвагу.
На высоком уровне была у Кенесары-хана дипломатическая служба. Он лично обращался с письмами к высоким должностным лицам соседних стран. Содержание этих писем отличалось четкостью и аргументированностью. Дипломатические приемы Кенесары проводил с тактом и изысканностью подлинного торе.
Созданное Кенесары-ханом феодальное государство располагалось на обширной территории Казахстана, исключая часть казахских земель на севере, где силой оружия утвердилась Российская империя. Кенесары поощрял в своем государстве переход населения к земледелию: восставшим нужно было много хлеба. Это свидетельствует, видимо, и в пользу общей склонности этого правителя к прогрессу.
Кенесары упорядочил сбор налогов. Это тоже объяснялось двуединой задачей: укрепить государство и увеличить поступление средств в казну для материальной поддержки восстания. Была усовершенствована торговая политика. Если, к примеру, хан Уали, сын Абылай-хана и дядя Кенесары, «увлекался» разграблением торговых караванов, то Кенесары лишь облагал их налогом, что давало большие доходы, нежели они бы разграблялись. Это также говорит о дальновидности и уме Кенесары-хана.
Ярый сторонник централизации власти, Кенесары жестоко пресекал любые попытки межродовых раздоров, столкновений, насильственного угона скота — барымты, практиковавшегося в качестве наказания, как и откола от народного движения. Разумеется, при этом Кенесары руководствовался не какими-то общегуманитарными устремлениями, а интересами себя лично как властителя и своего ханства. Даже враги видели в Кенесары удачливого и гибкого политика, отмечали его прозорливость, считая, правда, что умом все-таки он уступает своему прославленному деду Абылай-хану, зато превосходит его и других неукротимой энергией. Энергия «мятежного султана» и в самом деде была замечательна. Он сумел за короткое время организовать столь сильное ополчение, что с ним вынуждено было считаться все «окружение»: царское самодержавие, кокандские беки, киргизские манапы, довольно сильные внутренние враги. Самым грозным противником было, конечно, российское правительство, решившее провести против объявленного вне закона «степного разбойника» крупномасштабную борьбу. И это не было переоценкой сил. Ополчение Кенесары представляло собою хорошо организованную армию, разделенную на боевые единицы — отряды. Во главе их стояли подлинные народные вожаки, батыры. В отрядах царил дух дисциплины и порядка, одухотворяемых высокой идеей, что делало армию Кенесары внушительной силой. Причем она была подготовлена как к скоротечным столкновениям с вражескими группировками, так и к затяжным боям с ними. В армии Кенесары были введены и воинские знаки отличия. Сам он носил голубой мундир с эполетами русского полковника. Рядовые воины имели на обмундировании зеленые нашивки, сотники и тысяцкие — красные. Даже юрту, где проводились военные советы, Кенесары называл штабом. И в нем было разработано немало операций, завершившихся победой.
Император Николай I отрядил против мятежного султана боевые отряды, часть из них возглавляли казахские султаны — правители Младшего жуза, ненавидевшие и боявшиеся Кенесары и пытавшиеся во что бы то ни стало сокрушить его. Он, со своей стороны, располагая широкой агентурной сетью, хорошо знал о всех намерениях и действиях врагов. И предпринимал молниеносные рейды с целью нанесения максимального урона им при минимуме потерь в своем стане. Так Кенесары избегал ненужных ему боев и предпринимал атаки лишь тогда, когда это было выгодно ему. Летучие отряды казахского хана летом 1844 изрядно потрепали и нанесли ощутимый урон царским войскам.