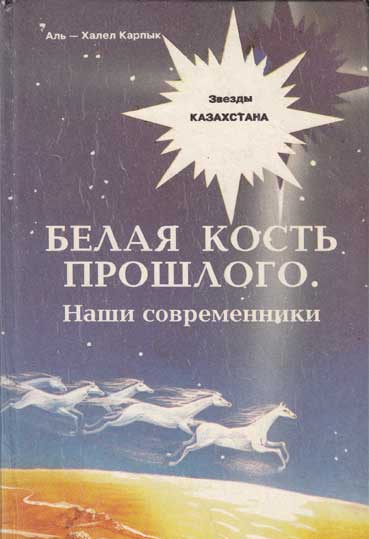Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 8
| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |
| Автор: | Аль - Халел Карпык |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1994 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
РОССИЙСКИЕ ГОСУДАРИ И КАЗАХСКИЕ ПРАВИТЕЛИ
История взаимоотношений российских самодержцев и казахских ханов, султанов — это история присоединения Казахстана к России, так как этому величайшему акту предшествовали и сопутствовали политические контакты на высшем уровне. На первый взгляд, инициатива шла в этом вопросе со стороны Степи. На деле, и русское государство было кровно заинтересовано в расширении своих границ на Востоке и увеличении торгового обмена и иных форм взаимоотношений с ним.
В начале второй половины шестнадцатого века Иван IV завоевал Казанское, Астраханское ханства, Юго-Западную Сибирь и установил так называемый Камский торговый путь. Так что прямой выход на казахские степи был открыт. Они интересовали русских государей не только сами по себе, но и как транзитные торговые пути в ханства Средней Азии, с которыми Русское государство наладило к тому времени торговые и дипломатические отношения. Со всей остротой вставал вопрос безопасного прохождения купеческих караванов. Для обеспечения его вольно или невольно приходилось вникать в политическую ситуацию в Казахском государстве и в его взаимоотношения с другими соседствующими странами. Так были установлены непосредственные контакты русских самодержцев с казахскими правителями.
Первое русское посольство побывало в Казахстане в 1573 году, а первое казахское в русских пределах — в 1594. Оно было снаряжено ханом Тауекелом и добивалось от царя Бориса Годунова «огненного бою» для борьбы с врагами-феодалами на границах Казахского ханства. Борис Годунов обещал Тауекелу посылку войске оным «огненным боем» для защиты казахов от их агрессивных и коварных соседей. Еще дальше продвинулись торговые дела при Иване IV Грозном, давшем своим купцам добро на торговлю с казахами.
Русские государи и казахские правители в равной степени были заинтересованы и активно поощряли развитие торгово-экономических связей между своими странами. Кроме того, они нужны были друг другу и как союзники. Так началось и строительство русских укреплений-крепостей на границе с Казахстаном.
Первое десятилетие восемнадцатого века было особенно мрачным в истории Казахского государства. Теснимое со всех сторон врагами, и в первую очередь — джунгарами, оно вынуждено было думать о союзниках. Лучшим союзником представлялось Русское государство. И казахские ханы и султаны вступили в переговоры с Петром I, предлагая вместе воевать с Джунгарией, бывшей потенциальным противником и для русских.
Знаменателен для нас 1717 год, когда вожди казахов султаны Абулхаир и Каип обратились к Петру I с прошением о принятии их жузов — Младшего и Среднего в состав Русского государства. Просьба о подданстве повисла на время в воздухе. Петр I, будучи осведомленным о междоусобных сложностях в казахских владениях, проявил дипломатическую осторожность, заявив о нежелании вмешиваться в «казахские дела». Хотя при этом постоянно интересовался и наблюдал за ними со стороны, выжидая удобного времени для принятия казахов в подданство. Эго нужно было Петру I для расширения восточных границ своей империи и для обеспечения в них безопасности и спокойствия. По личному указанию Петра I была возведена военно-оборонительная Верхне-Иртышская линия, заставившая джунгар заметно «смягчиться» по отношению к казахам.
Не принятые в подданство с «первого захода», казахские правители продолжали проявлять настойчивость. В 1726 году хан Абулхаир отправил своего посла в Россию. Посольство не увенчалось успехом. В 1730 году Абулхаир-хан вновь просил императрицу Анну Иоанновну о покровительстве и подданстве. На сей раз она удовлетворила просьбу Абулхаира о принятии Младшего жуза казахов в российское подданство. Российская императрица гарантировала уже официально подданным казахам «нашим защищением охранены быть» в случае агрессивных действий со стороны враждебно настроенных государств. Вслед за Младшим — потянулись под надежное «крыло» российской императрицы и другие казахские правители. Правда, вступление Старшего жуза казахов в российское подданство осложнилось убийством хана Жолбарыса и некоторыми другими обстоятельствами. А просьба хана Среднего жуза Семеке о вхождении в число российских подданных была удовлетворена Анной Иоанновной в 1734 году. Фактически же в 1740 году к России присоединилась лишь часть Среднего жуза. Остальная часть была присоединена позже насильственным путем.
В 1748 году султан Барак убил хана Младшего жуза Абулхаира, выступившего пионером вхождения в состав Российской империи. Это встревожило российское правительство. Оно назначило на место погибшего Абулхаира его сына, Нуралы, поддерживавшего Россию.
В 1756 году российский царизм издал приказ, по которому казахам зимой запрещалось перегонять скот на правый берег Урала. Военные укрепления, строившиеся в казахской степи, превращались в передовые посты их колониального захвата Россией. Казахов стали вытеснять из их родовых кочевий. Хан Нуралы, побуждаемый своей знатью и простонародьем, вынужден был заявлять вялые протесты. «Верхи» России попросту игнорировали их.
Екатерина II взяла курс на отмену ханской власти в Казахстане. Был подготовлен проект соответствующей реформы, оказавшейся неудачным. Хан Младшего жуза Нуралы попал под перекрестный огонь собственных «низов» и российских «верхов» и был смещен. А поскольку новая, более действенная реформа еще не была разработана, России пришлось назначить в Младшем жузе нового хана — престарелого Айшуака, который был правителем лишь по названию. Айшуака, после его смерти, сменил его сын Жанторе, за ним — другой сын — Шергазы, воссевшие на престоле и действовавшие по указке российских властей.
По-другому складывалась обстановка в Среднем жузе казахов. Здесь сыграла свою роль дальновидность Абылай-хана, который, продолжая сохранять российское подданство, принял китайский сюзеренитет. Это позволило ему сохранять относительную самостоятельность в условиях жестких колониальных притязаний двух могущественных империй — Китайской и Российской. Признание Абылая ханом Среднего жуза и цинским двором (а он признал Абылая китайским князем), и Екатериной II позволили казахскому правителю возвыситься и укрепить свою власть не только над Средним, но и над всеми казахскими жузами.
Эту же политику лавирования между Китаем (Цинской империей) и Россией продолжил после Абылая и его сын, Уалихан. Это окончательно укрепило Российское правительство в намерении отменить ханскую власть и в Среднем жузе. Для этого оно вначале было ослаблено назначением в жузе... второго хана, Бокея. А после смерти Уали и Бокея, новый хан или ханы в Среднем жузе более не назначались.
После исчезновения ханской власти в наиболее богатом в те времена на одаренных правителей Среднем жузе, царское правительство ввело так называемый «Устав о сибирских киргизах», разработанный М. М. Сперанским. Поскольку этот устав вводил новую систему управления в казахских землях и этими землями, расскажем о нем в отдельном очерке. В нем, для удобства и ясности, погрешив при этом против правописания, упомянутый документ будет назван «Уставом» о сибирских казахах. Дело не в названии, а в сути. А всей своей сутью Устав Сперанского стремился закабалить Казахскую Степь. По нему, часть ее, занятая Средним и частично Старшим жузом, стала называться Область сибирских киргизов и вошла в состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства.
Степь ответила восстанием под началом Кенесары-хана, внука Абылая. Царизму понадобилось полтора десятка лет, чтобы погасить огонь этого мятежа. Правда, мятежной оказалась в основном юго-восточная часть Среднего жуза. Большая же его часть под предводительством султана Суюка добровольно приняла российское подданство. Это произошло в 1819 году.
В 1824 году — теперь уже Александр I принял в российское подданство полтора десятка семиреченских султанов. Но это был уже не диалог, как некогда, а монолог. Отныне говорили только российские государи, а казахские правители лишь слушали и внимали высочайшим повелениям.
Присоединение Казахстана к России, начавшись в тридцатых годах восемнадцатого века, продолжалось более века. Царизм завершал его, используя военную силу для подавления возникавших очагов мятежей. Какое было дело русскому правительству до коренных интересов населения Казахстана, если его в ту пору заботило лишь одно: поскорее утвердившись в Южном Казахстане и Средней Азии, оказаться впереди Британской империи. И царизму это удалось.
УСТАВ СПЕРАНСКОГО
М. М. Сперанский, известный сибирский губернатор, подготовил, а царское правительство «подмахнуло» «Устав» о сибирских казахах. По этому Уставу, окончательно закреплялось в Казахстане господство российского царизма, которому нужно было «узаконить» свои жесткие колониальные притязания и ограбление простых казахов. Именно — простых. Ибо российское правительство волей-неволей оставляло за крупными казахскими феодалами право на собственность и высокие должности в местном административном аппарате.
Эго была своеобразная плата за отнятое. По новому Уставу, в Среднем и Младших жузах казахов была отменена ханская власть. Территория Среднего жуза переименовывалась в область сибирских казахов, Младшего — в область оренбургских. В свою очередь, области разделялись на округа, те — на волости и аулы. (Причем прием этот был стар, как мир: разделяй и властвуй). Во главе новоявленных подразделений царское правительство поставило угодных ему, более или менее верных людей из числа казахской знати. Деление на области принудило коренное население перейти на оседлый образ жизни, тем самым освободив значительные земли для посылаемых в Казахстан военных казаков и крестьян.
Претерпела изменения и система судопроизводства. Все важные дела — о государственной измене, крупных имущественных вопросах и тому подобное отныне рассматривалось представителями царских властей и лишь второстепенные — местными биями. Бии и другие местные управители назначались и снимались с должностей по воле колониальных администраторов. Ну, а бывшие властители Степи — ханы? Продолжая сохранять некоторую, весьма ограниченную и хорошо контролируемую политическую власть, они и сами стали «слугами» у своих российских господ. Правда, крупные феодалы продолжали владеть огромными стадами и табунами, обширными земельными наделами, что служило своевольным потомкам Чингиз-хана неплохой компенсацией за ущемление в правах и отвлекало их мысли от возможных поворотов в сторону «революционных» идей.
Так что Устав Сперанского по-настоящему ущемил лишь бедноту. Но и у нее появилась некоторая отдушина. Если раньше бедняк был прижизненно «прописан» у феодала, то теперь, когда Казахстан стал частью России, он мог покидать насиженные места в поисках лучшей доли. А «лучшая доля» для бедноты везде отдавала соленым привкусом пота и крови.
С делением на области и округа, имевшим не только отрицательные, но и положительные последствия, появились такие крупные оседлые поселения в казахской степи, как Кок-четав (1824) и Акмолинск (1832), которые в наше время превратились в довольно большие центры. Примерно в то же время появились и Каркаралинск, Баянаул, Атбасар и ряд других. Так что за появление первых своих областных центров мы можем сегодня вспомнить добрым словом сибирского губернатора Сперанского, который, правда, руководя разработкой своего Устава, отнюдь не испытывал благотворительных и альтруистических чувств к казахам и иным обитателям казахских земель.
Не мешает запомнить год создания «Устава» о сибирских казахах, упразднившего ханство и узаконившего новую систему управления в Степи и Степью, — 1822-ой.
ХАН ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ БОКЕЕВСКОЙ ОРДЫ КАЗАХОВ ЖАНГИР (1824 - 1845)
Внутренняя или Бокеевская Орда получила название по имени Бокей-хана, который вместе с подвластными казахами, имуществом и скотом, по разрешению российского правительства, заселил территорию между низовьями рек Урал и Волга. После смерти Бокея Ордой правил султан Шигай. А достигнув совершеннолетия, на ханский престол во Внутренней или Бокеевской Орде взошел сын Бокей-хана, Жангир, воспитывавшийся в доме Астраханского губернатора и провозглашенный ханом в Уральске.
Правил Жангир-хан своей Ордой долго и плодотворно, проявив дарования подлинного реформатора. Хан Жангир создал при себе дееспособный управленческий аппарат, являвшийся прообразом нынешних правительственных аппаратов. Здесь были и канцелярия, и депутатская группа, и совет биев, и многое другое, что в совокупности представляло собою всеохватную и гибкую управленческую систему. Была введена и должность главного духовного лица ханства — ахуна (иными словами — ходжи). Ахун следил за развитием духовного образования в государстве. В Орде открывалось много мусульманских школ, было много мулл. Они давали населению начатки духовного образования и светских знаний. Выпускники мусульманских школ, показавшие примерное усердие и способности, продолжали учебу в Ташкенте и Бухаре.
По инициативе Жангир-хана в 1841 году была открыта первая в Орде и во всей Казахии светская школа. Дети обучались тут грамматике и математике, различным языкам. Наиболее способные выпускники имели возможность продолжить образование в России.
Сам хан Жангир был весьма образованным для своего времени человеком. Он был избран почетным членом научноисторического общества при Казанском университете. Жангир-ханом был записан целый ряд эпических произведений казахов, представляющих художественный и научный интерес.
Жангир создал в своем ханстве даже оружейный музей, располагавший интереснейшими экспонатами. Среди них — и воинские доспехи работы казахских мастеров-оружейников, и жалованные российскими императорами ханскому роду сабли.
Жангир-хан многое сделал для перевода подвластных ему казахов к оседлости. Этому способствовала прежде всего передача земель в частную собственность. Немало новшеств ввел хан Жангир и по части усовершенствования налоговой политики.
Жангир дал вторую жизнь в своем ханстве тарханству, наделяя тех или иных лиц за большие заслуги властью, привилегиями при уплате налогов и т.п. В особых случаях тарханы имели право приобретать высокие должностные места.
На территории Внутренней или Бокеевской Орды при Жангаре пышным цветом расцвела торговля. Проводились многолюдные ярмарки, собиравшие сотни купцов. Стадами и отарами гнали в Россию на продажу скот. Объем торговли для своего времени был огромен. В так называемой ханской ставке Жангира — своеобразном крупном торговом центре — было множество лавок, торговых складов.
Все названное способствовало развитию Казахстана, выходу его на широкие международные связи... Но вот, в 1845 году, хан Жангир скончался. И после него ханская власть не была передана преемнику. Внутренней или Бокеевской Ордой отныне стали управлять из России — через созданный для этого временный совет. Успехи Орды стали клониться к закату.
Жангир был третьим и последним, самым заметным ханом Внутренней или Бокеевской Орды казахов.
СУЛТАН СРЕДНЕГО ЖУЗА КАЗАХОВ, А ВПОСЛЕДСТВИИ ХАН ВСЕХ ТРЕХ ЖУЗОВ АБЫЛА (1771-1781)
Этот очерк о правителе, прозванном Абылай Великий, питают два источника — официальный и неофициальный.
Первый — весьма авторитетный источник — Национальная Академия наук Казахстана: «История поставила Абылайхана, жившего в 1711—1781 годах, в ряды наиболее авторитетных государственных деятелей Центральной Азии XVIII века.
Чингизид по происхождению, Абылай принадлежал к старшей ветви потомков основателя Казахского ханства хана Жанибека (XV век). В первой половине XVIII века он проявил себя талантливым организатором освободительной борьбы народных масс и полководцем-стратегом, возглавившим отряды казахского ополчения в борьбе против джурганских войск. Участвовал в наиболее крупных сражениях с джунгарами в 20-х — начале 50-х годов XVIII века, за что получил звание батыра.
В Казахстане и за его пределами Абылай-хан был известен как дальновидный и мудрый политик, обладавший выдающимися дипломатическими способностями и талантом государственного деятеля. Его усилия были направлены на создание сильного и независимого казахского государства. Он возглавил объединительные тенденции казахов и способствовал централизации государственной власти в Казахстане. В 1771 году на съезде представителей всех трех жузов Абылай был избран казахским ханом. Период его правления был ознаменован стабилизацией политической обстановки в Казахстане, повышением его престижа и расширением экономических и культурных связей казахов с другими народами Центральной Азии и России.
Об Абылае казахский народ сохранил множество легенд, сказаний, поэм, в которых прославляются его дипломатические способности, личная отвага и смелость, государственный ум, твердость духа».
Второй источник — 59-летний Абдразак Онгарбаев, как сам он выразился, «многие годы интересующийся жизнью и деяниями Абылая»: «Немало влиятельных ханов правило нашими степями. А самым влиятельным среди них я считаю Абылая. Не зря народ выделял его. Абылай обладал всеми качествами, какими должен обладать хан, чтобы его называли Великим. Какие же это качества? Назову их по порядку.
Первое — Абылай был чингизидом, да еще старшей ветви, белой костью. В то же время он, большой степной аристократ, хорошо знал нужды простого народа. Причем Абылай на себе испытал все тяготы и лишения, выпадающие на долю «черной» кости — кара суйек. Еще в юности он, султан, достойный ханского престола, служил обыкновенным табунщиком у богача, пас лошадей. Как распознали в нем знатного человека? Хозяйка заметила: юноша никогда не пьет кумыс из грязных чашек. Поделилась наблюдениями с хозяином. Тот, побеседовав с Абылаем, узнал о высоком его происхождении. В знак уважения богач подарил торе самого быстрого своего скакуна. На этом коне и отправился, говорят, отважный юноша за славой. И добыл ее в боях, находясь всегда в передних рядах атакующих врага джигитов.
Второе — Абылай в высшей степени обладал отвагой и смелостью. Да об этом мы уже упомянули. Вступив на военное поприще рядовым воином, Абулмансур-султан, переменивший имя в честь деда в Абылая, очень скоро отличился, проявил доблесть подлинного батыра, зарекомендовал себя непобедимым военачальником. Абылай хорошо знал и жизнь толенгутов, простых воинов. Не один десяток лет провел он в боевом седле, ведя свои войска к новым и новым победам. Полководческий дар проявился в Абылае настолько ярко, что народ считал его даже духом, посланным с небес.
Третье — Абылай обладал глубоким государственным умом. Он постоянно учился сам и учил других. Наставлял сыновей: разделяйте и властвуйте. И сам правил по этому принципу. Абылай постоянно разжигал междоусобицы между врагами и объединял друзей. В его положении это было самым верным и мудрым.
Четвертое — Абылай был на редкость хитер. Он искусно лавировал между казахскими родами, между Россией и Китаем, между Китаем и Джунгарией, между Россией и Средней Азией и так далее и тому подобное. Если отвагой он был подобен льву, мудростью и умом — змее, то хитростью и увертливостью — лисице и ящерице в одно и то же время. Как ловко лавировал Абылай, к примеру, между законными российскими властями и самозванным самодержцем Емельяном Пугачевым! Он терпеливо выжидал, присматривался, пытаясь определить, кто сильнее. Если б победил самозванец, Абы-лай-хан сказал бы ему, что с самого начала был на его стороне. То же самое он заявил бы законному правительству, одолей оно Пугачева. Когда оно действительно взяло верх на «Пугачом», хан Абылай сделал вид, будто бы не вел никаких переговоров с крестьянским вождем, хотя на самом деле вел их, и российские власти подозревали его в этом.
За кого же был по-настоящему Абылай-хан? Конечно, же, за законную власть. Ведь сам себя он считал казахским законным ханом всех трех жузов. Да только «русская баба-царица» никак не хотела признавать этого, упорно называя Абылая ханом Среднего (и только Среднего!)жуза. Русское правительство хитрило с Абылаем. Постоянно хитрили с ним правители других сопредельных государств. Поэтому можно ли осуждать хана Абылая за постоянно проявляемые изворотливость и хитрость. Не будь Абылай-хан таким хитрым и изворотливым в той тревожной обстановке, в какой ему приходилось править на протяжении многих лет, не выжить бы ему самому, не выжить бы Казахскому государству, не уцелеть бы казахскому народу. Бесспорно, Абылай хитрил и с собственным народом, обещая ему одно и делая другое. Хитрил и с собственной знатью — другими султанами, а также родовыми вождями — биями, старшинами, батырами. Нехитрая, простодушная политика очень скоро лишила бы Абылая власти. На его место пришел бы кто-либо другой, скорее всего — менее одаренный правитель. И тогда дела казахов в ту страшную годину непрерывных иноземных набегов и вторжений могли бы закончиться очень плохо. В этом — оправдание хитрости и изворотливости Абылая. Благо для всех казахов, что Абылай довольно долго удержался у власти. И теперь уже не так важно — каким путем и какими средствами.
Пятое — Абылай обладал несгибаемой волей и твердостью. Он упорно шел к власти. И настал час, коща знатные люди подняли его на белой кошме над степью, провозгласив ханом всех трех жузов. С этого часа Абылай правил казахами твердо и самовластно. Крутость его нрава почувствовали все, включая тех, кто не любил и не привык подчиняться — богатые и знатные родовые вожди. Абылай установил свои —мудрые и одновременно жесткие законы. Он присвоил себе право казнить и миловать, принадлежавшее ранее всему народу. Абылай был крут и справедлив. Его боялись и уважали. Что ж, время было такое, что только сильный мог утвердить свое право повелевать людьми. Только за твердыми и несгибаемыми властителями шли они на все.
Шестое — Абылай был очень расчетливым. Он, как говорится, за несколько ходов вперед предугадывал действия тех, с кем вынужден был считаться. К примеру, в нужный час Абылай-хан присягнул на верность России. При этом он был верен ей по-своему, исходя из интересов своих и своего государства. Впрочем, и Россия принимала участие в делах казахов отнюдь не из альтруистических побуждений. Так что расчет сталкивался с расчетом, корысть с корыстью. И все были квиты. Доходило до того, что, верный на словах, Абылай грабил русские караваны, делая это ловчее, чем другие. Россия также не оставалась в долгу, по-крупному грабя и разоряя казахские степи.
Седьмое — Абылая отличала редкая целеустременность. Главными целями его были: достижение личной власти над всеми тремя казахскими жузами, последующее объединение их в один монолит, в одно крепкое государство. Не считаясь со средствами и прибегая к любым, в том числе и кровавым и подлым с точки зрения обычного человека, Абылай-хан добился своих великих целей... Абылай, как и все казахи, считал киргиз родственным народом, но когда историческая ситуация вынудила его ради достижения главных целей драться с киргизами, казахский властитель без колебаний пошел на это. Абылай выбрал удобный момент, коща Россия, занятая подавлением Крестьянского восстания под руководством Пугачева, не могла вмешаться в его дела и стремительно напал на киргиз, вытолкнув их за реку Чу, с казахских земель в киргизские пределы.
Восьмое — Абылай был везучим человеком. Так, он дважды побывал во вражеском плену — в юности и в зрелом возрасте и остался в живых, что удивительно. Особенно — когда он угодил в руки джунгар, убив любимого сына правителя. Мать убитого каждый день приходила к глубокой яме, где был заключен убийца, и требовала его смерти, проклиная на чем свет стоит. Однако Абылай остался жив. Требовалось чудо — или поразительное везение! — чтобы, убив любимого сына джунгарского хунтайджи и попав к нему в плен, остаться в живых.
Девятое... Перечисление достоинств, какими обладал Абылай как великий хан, можно было бы продолжать и дальше, но, я думаю, достаточно и перечисленных. К тому же вряд ли стоит перечислять достоинства хана Абылая раздельно. Все они были в нем неразделимо слиты. Только различные качества выступали вперед в зависимости от обстоятельств. В одних случаях Абылай проявлял свой большой государственный ум, в других — отвагу, в третьих — расчетливость и гибкость, в четвертых — осмотрительность... Умение интуитивно, быстро и безошибочно выбрать нужное время и место для единственно верного решения и действия и отличали Абылая как великого хана
Да, Абылай был совсем не прост, был очень сложен. По-разному и относились к нему современники. Большой поэт Жамбыл, допустим, сравнивал Абылая с «шакалом, рыщущим по степи в поисках добычи». Думаю, такое сравнение неверно, упрощает глубокую и многостороннюю личность казахского хана. Из поэтов лучше всех знал и понимал его натуру и мотивы действий великий Бухар-Жырау. Он жестко и нелицеприятно говорил о недостатках Абылай-хана, он вдохновенно воспел подвиги и величие Абылая, он же горько оплакал и смерть этого властителя».
Абылай Великий, цостоянно находясь между Сциллой царской России и Харибдой императорского Китая и умело используя противоречия между ними, сумел на протяжении длительного времени сохранить относительную независимость Казахского государства. Абылай-хан оправдал имя Великого не только своими делами, но и оставленным потомством. Один из его потомков — Кенесары-хан прославился как борец за самостоятельность казахов, другой — Чокан Валиханов как ученый.