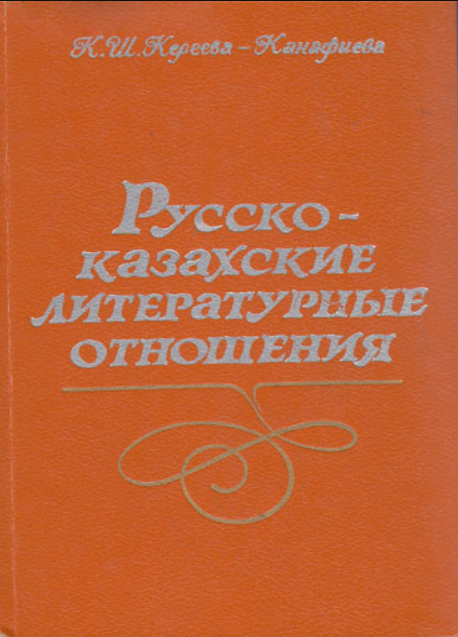Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 2
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Разумеется, в русской печати о казахах публиковались не только правдивые материалы. Встречались и публикации ретивых чиновников, где рядом с правдой соседствовали досужие измышления и нелепые истории. Популярность «экзотических» тем обусловила появление и таких сочинений, в которых смешивали казахов с другими народностями (узбеками, татарами).
Положительным явлением стало зарождение местной печати в Средней Азии и Казахстане. В газетах, сборниках, альманахах Туркестанского, Оренбургского, Западно-Сибирского генерал-губернаторств, выходивших в Ташкенте, Оренбурге, Омске, часто публиковались материалы, посвященные жизни казахских степей. Так, казахская тематика не сходила со страниц «Ежегодника Туркестанского края», «Туркестанских ведомостей», «Русского Туркестана», «Окраины» (последняя выходила в Самарканде, 1890—1895), «Оренбургских губернских ведомостей», «Оренбургских епархиальных ведомостей», «Оренбургского листка» и т. д. В разных областях Казахстана начинают выходить на русском и казахском языках «Киргизская степная газета», «Акмолинские областные ведомости», «Особое прибавление к Акмолинским областным ведомостям», «Тургайские областные ведомости», «Семипалатинские областные ведомости», «Степной край» и др.
Для исследователя несомненный интерес представляют труды и записки различных комиссий, комитетов, отделов ученых обществ («Труды Сыр-Дарьинского областного статистического комитета», «Записки Оренбургского отдела Русского географического общества» и т. п.). Некоторые сведения о казахах содержат и так называемые адрес-календари и памятные книжки, издававшиеся в отдельных губерниях и областях дореволюционного Казахстана «(Адрес-календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 1895 год», Оренбург, 1894; «Адрес-календарь Тургайской области на 1897 год». Оренбург, 1897).
Местные газеты, безусловно, содействовали укреплению взаимоотношений казахов и русских. Так, в «Киргизской степной газете» (1894, № 49) была опубликована статья, в которой рассказывалось о русских крестьянах, вступавших «в частные» сношения с жителями аулов и достигавших доверия и дружбы кочевников. В «Оренбургском листке» (1899, № 3) сообщалось, что казахи Кустанайского уезда живут «ладно» и «не ссорятся» с русскими переселенцами. Напротив, кочевники осваивают русскую культуру, начинают пахать землю, сеять хлеб, строить мельницы и изучать русскую грамоту.
Во второй половине XIX в. на страницах местных газет и журналов стали выступать казахские авторы. Это были в основном учителя, бывшие воспитанники русско-казахских школ и училищ. Они нередко поднимали наиболее острые вопросы жизни своего народа. В этом факте надо видеть результат благотворного влияния русской прогрессивной, демократической мысли. В казахской степи зарождалась национальная интеллигенция, стал заметен рост самосознания казахского народа.
В культурном развитии края и, в частности, в истории русско-казахских литературных связей определенную роль сыграл «Туркестанский сборник», составленный известным петербургским библиографом В. И. Межовым (1831—1894), в который включались по возможности все сочинения, а также газетные и журнальные статьи (русские и иностранные), касающиеся Средней Азии.
Дело, начатое В. И. Межовым и прерванное в 1887 г., было возобновлено лишь через 20 лет. В 1907 г. составлением сборника занялись члены Туркестанского отдела Русского географического общества, в частности, знаток литературы о Средней Азии Н. В. Дмитровский (1841— 1910), крупный этнограф А. А. Диваев (1856—1932), заведующий библиотекой И. П. Зыков. «Туркестанский сборник» составлялся до 1916 г.
Указатели к последним 175 томам были подготовлены уже в наше время историками-библиографами О. В. Масловой и Е. К. Бетгер. Последний справедливо считал «Туркестанский сборник» одним из замечательных памятников культурной работы передовой русской интеллигенции в дореволюционном Туркестане». Не случайно, что нашлись подражатели уникального Сборника. В частности, англичане составляли подобный сборник по Индии. В «Туркестанском сборнике» содержится большое число газетных и журнальных статей, посвященных казахам и казахской степи. Эти редкие материалы использованы в данной книге.
Важные очаги культуры — библиотеки стали возникать и в казахских степях. Еще в 1895 г. в Оренбургскую пограничную комиссию поступило сообщение о пожертвовании книг библиотеке при школе для казахских детей.
В составе различных экспедиций, направляемых в край, были художники—«рисовальщики», запечатлевшие в своих рисунках, этюдах, эскизах и полотнах неповторимые жизнь и быт казахов, пейзажи степных просторов. Правда, некоторые из них нередко прибегали к приемам стилизации, недостаточно четко передавая черты лиц казахов, опуская некоторые детали одежды и бытовой обстановки кочевников и т. д. Однако в 30— 50-х годах в казахских степях появляются мастера, творчество которых проникнуто духом критического реализма. В конце 30-х годов XIX в. в Оренбурге работают первые русские профессиональные художники В. И. Штернберг (ученик К. П. Брюллова) и А. Н. Горо-нович, а также ученик А. Г. Венецианова местный художник А. Ф. Чернышев. Эти художники создали произведения, познавательная ценность которых по оценке, например, искусствоведа Г. Н. Чаброва (1964), «велика и многообразна». И это верно.
В исследуемый период в казахских степях трудились и отдельные художники-любители, встречавшиеся в среде русского офицерства и чиновничества, ссыльных поляков (например, Бронислав Залесский и др.). Среди них следует назвать имя О. Н. Бутаковой, сопровождавшей экспедицию ученого А. И. Бутакова по изучению Аральского моря, Сырдарьи и Амударьи и оставившей многочисленные рисунки, посвященные казахам, туркменам и природе края. Великий украинский поэт Т. Г. Шевченко, служивший «рисовальщиком» в этой же экспедиции, также оставил серию рисунков, в которых отражены тяжелые Стороны жизни казахов.
Виднейшие русские ученые, внесшие определенный вклад в становление и развитие русско-казахских связей, оставили после себя и интересные фотодокументы. Так, этнограф П. Пятницкий, изучая представителей разных народов России, запечатлел на своих снимках типы социальных и национальных групп страны. Его фотографии следует рассматривать не только как документ о прошлом, но и как художественные произведения с образами наиболее типичных представителей народов.
Много сделала в Средней Азии и Казахстане фотограф Л. К. Полторацкая, участница экспедиций В. А. Полторацкого. Ее снимки (Восточный Казахстан — верховья Черного Иртыша и озеро Зайсан) существенно дополняли их исследования, отражали быт казахов. Полторацкая создала этнографический альбом «Виды и типы Западной Сибири», где приведена обширная коллекция снимков Алтая и Семипалатинской области. Это — фотографии казахских аулов и зимовок, национальной одежды, утвари, орнаментов на юртах и т. д. К нему приложен объяснительный очерк. На Московской антропологической выставке 1879 г. автор альбома была удостоена серебряной медали.
В 1869 г. группа ученых в Ташкенте приступила к составлению «Туркестанского альбома». Собственно издание состояло из четырех альбомов: археологического, этнографического, промыслового и исторического. Этнографический альбом знакомил с бытом и типами казахов, узбеков, киргизов, таджиков и туркмен.
«Туркестанский альбом» получил положительную оценку в русской печати. Например, В. В. Стасов считал его «монументальным изданием», явлением совершенно единственным «в своем роде между европейскими изданиями, изображающими быт и занятия народов», и назвал его «целой народной галереей». Высоко оценив коллективный труд русских фотографов, посвященный Туркестану, Стасов одобрительно писал и о другом альбоме, составленном также в Средней Азии для III международного конгресса ориенталистов в Петербурге в 1876 г. Следует заметить, что «Туркестанский альбом» украшал русский отдел Парижской международной географической выставки 1875 г. и получил высшую награду.
Можно отметить, что фотографией с любовью занимались П. П. Семенов-Тян-Шанский, И. В. Мушкетов, Л. С. Берг, Г. Н. Потанин и другие крупные русские ученые, использовавшие фотоаппарат как средство фиксации важнейших сторон жизни людей. Необходимо подчеркнуть, что число русских художников и фотографов, посвятивших свое творчество отображению различных сторон жизни казахского народа, было значительно. Их благородная деятельность заслуживает глубокого и самостоятельного изучения, так как историческая ценность фотодокументов, запечатлевших многотрудную в прошлом жизнь народов Средней Азии, Казахстана и Сибири, исключительно велика. К сожалению, роль фотографии в процессе развития русско-казахских отношений изучена совершенно недостаточно.
Таким образом, всестороннее развитие русско-казахских литературных отношений было обусловлено комплексом факторов: участием в указанном процессе русских писателей-классиков, а также остальной массы художников слова, почти всей русской периодической печати; появлением в казахских степях местных органов печати и большой группы казахских авторов-энтузиастов, занимавшихся публикацией произведений устного народного творчества и переводами произведений родной и русской литератур; прогрессивной деятельностью талантливых русских ученых и путешественников, научных экспедиций и ученых обществ; позитивными результатами развития сети русско-казахских школ и других учебных заведений, способствовавших появлению образованных людей, положивших начало просвещению казахского народа; постепенным развитием сети библиотек.
В настоящей работе русско-казахские литературные отношения рассматриваются в связи с идейно-политическим развитием русского и казахского обществ, их социально-экономическим положением, «в соотношении» и «соприкосновениях» с народным творчеством, музыкой и песнями казахов и т. д. На подобное рассмотрение наталкивает исследователя богатство фактического материала: давние и разносторонние связи России и Казахстана получили свое воплощение не только в русских летописях, специальных исследованиях и обстоятельных трудах русских ученых, но и в очерках, рассказах, повестях, романах писателей.
Автором широко использованы ценные материалы, хранящиеся в различных архивах страны (Центральный исторический архив СССР, Центральный государственный архив литературы и искусства, архив Всесоюзного географического общества, республиканские архивы Казахской и Узбекской ССР, Государственный архив Оренбургской области и др.) и проливающие свет на некоторые литературно-исторические факты и события.
Возможностью написания этой книги автор во многом обязана педагогу, профессору Нургазы Идашевичу Керееву, другу и помощнику в жизни и работе.
Изучение литературных связей русского и казахского народов представляет лишь часть проблемы развития нашей многонациональной литературы. Советское литературоведение в этом направлении имеет в своем арсенале известные коллективные труды и монографии отдельных ученых.
Необходимо отметить, что творчество большинства русских писателей, чьи труды анализируются в настоящей книге, в самой русской критике почти никогда не рассматривалось с точки зрения их роли в становлении и развитии русско-казахских литературных отношений. Правда, казахстанские исследователи, изучая различные аспекты этого процесса, внесли известный вклад в разработку данной проблемы. Ей посвящен и целый ряд . газетно-журнальных статей.
Настоящая монография показывает становление и развитие дружбы русского и казахского народов и отражение этого процесса в русской литературе второй половины XIX —первого десятилетия XX в.
Подлинного расцвета русско-казахские литературные связи достигли лишь в советскую эпоху, когда казахский народ стал равным среди равных в братской семье народов СССР и получил реальные условия для всестороннего развития своей экономики й культуры.
КАЗАХСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КЛАССИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
XIX век вошел в историю как век расцвета русской классической литературы, могучий подъем которой начался со времен А. С. Пушкина и продолжался в течение всего столетия.
В первые десятилетия прошлого века в России наряду с культурой реакционного дворянства развивалась и культура прогрессивная, культура декабристов и Пушкина. Развитию и укреплению позиций представителей литературы прогрессивного направления способствовало «время от 1812 до 1815 года», которое «было великою эпохою для России». В. Г. Белинский подчеркивал, что «12-й год... пробудил... спящие силы» России и «открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил... способствовал зарождению публичности, как началу общественного мнения». Великий критик особо отметил, что «12-год нанес сильный удар коснеющей старине...». Этой «коснеющей стариной» был крепостной строй в России.
В. И. Ленин различал три периода в истории русского освободительного движения: «...1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время».
Каждому из этапов революционного движения России соответствовали своя печать, своя литература. Всемирное значение русской литературы заключалось именно в том, что она руководствовалась наиболее прогрессивными идеями своего времени. Бесценным содержанием пушкинского периода русской литературы явилась победа принципов реализма.
В 40—50-е годы русская литература развевается под идейным влиянием А. И. Герцена и В. Г. Белинского. В этот период для русской литературы характерно дальнейшее сближение с жизнью народа, активное вмешательство в общественный процесс. Не случайно В. Г. Белинский писал, что «в наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов».
В 40-е годы происходит утверждение критического реализма, основу которого заложили Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Появляется жанр «физиологического очерка». В сборнике «Физиология Петербурга», изданном Н. А. Некрасовым в 1845 г., принял участие и В. И. Даль, один из тех, кто заложил основы развития русско-казахских отношений. К этим же годам относится и деятельность поэта А. Н. Плещеева, сосланного впоследствии в казахские степи.
В конце 40-х годов Ф. М. Достоевский и поэт С. Ф. Дуров (1816—1869), обвиненные как участники кружка Петрашевского, стали узниками «мертвого дома». По выходе из омской каторжной тюрьмы Достоевский прожил в ссылке в Казахстане почти пять лет, что наложило известный отпечаток на его творчество, обусловив возникновение казахских мотивов в некоторых крупных произведениях гениального писателя. А его творческие связи с Ч. Валихановым составили самостоятельную главу в русско-казахских литературных отношениях.
События 50—60-х годов потрясли империю Романовых. Крымская война (1853—1856), принесшая позорное поражение царскому самодержавию, ускорила ликвидацию феодально-крепостнической системы в России. Как известно, отмена крепостного права была осуществлена в интересах сохранения помещиками-крепостниками своих правилегий. И все же «после падения крепостного права в России довольно быстро стал развиваться капитализм, прежде всего в промышленности». В. И. Ленин отмечал: «19-е февраля 1861 года знаменует собой начало новой, буржуазной, России, выраставшей из крепостнической эпохи».
Ликвидация крепостного права сопровождалась не только интенсивным развитием капиталистической экономики, ростом городов, появлением новых путей сообщения и т. д., но и некоторым повышением культурного уровня населения. Одновременно усилились русификация и христианизация коренного населения окраин с помощью «русско-инородческих» школ. В 1865 г. в России было создано «миссионерское общество для содействия распространению христианства между язычниками», к последним относились все народности нехристианского вероисповедания.
Начало 50-х годов ознаменовалось для русской литературы успешным выступлением Л. Н. Толстого. Н. Г. Чернышевский уже тогда назвал его великой надеждой родной литературы.
Значительного расцвета русская литература достигла в 60-е годы, когда в развитии освободительного движения в России на смену дворянским революционерам пришли разночинцы.
«Падение крепостного права,— писал В. И. Ленин,— вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности». Для этого десятилетия характерна активная деятельность Н. Г. Чернышевского, который в сравнении с А. И. Герценом «сделал громадный шаг вперед» (В. И. Ленин) и был идейным вождем и вдохновителем второго поколения русских революционеров XIX в.— поколения революционных демократов 1860-х годов. Широкую известность в этот период приобрела литературная и общественная деятельность соратника Чернышевского, поэта, писателя, критика М. Л. Михайлова, написавшего и серию очерков из жизни казахов.
Демократический подъем в русском обществе в 60-х годах сопровождался развитием прогрессивной периодической печати. В 50—60 годах любимым журналом передовых читательских кругов России стал «Современник», боевой орган пропаганды революционно-демократических идеалов Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова. Они сплотили вокруг «Современника» лучшие прогрессивные силы русской литературы. Он оказывал такое огромное влияние на русское общество, какого не имел ни один журнал того времени.
Революционно-демократическое направление «Современника» благотворно воздействовало и на формирование прогрессивного, демократического мировоззрения у представителей интеллигенции Украины (Т. Г. Шевченко), Грузии (И. Чавчавадзе, А. Церетели), Казахстана (Ч. Ч. Валиханов) и др.
С резкими разоблачениями колонизаторской политики царизма на национальных окраинах, в частности в казахских степях, выступал на страницах «Колокола»
А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов в своих трудах указывали на необходимость правдивого описания всех сторон жизни, быта, нравов и культуры народов окраин. Так, Н. А. Добролюбов справедливо считал, что «патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть ему полезен... Настоящий патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным народностям».
На позициях именно такого патриотизма и истинного гуманизма стояла вся блестящая плеяда писателей — лучших представителей демократического направления в литературе России прошлого столетия. В их числе достойное место занимает и патриарх русской реалистической прозы Сергей Тимофеевич Аксаков (1791 — 1859). Для нас в творчестве этого замечательного писателя представляют определенный интерес инонациональные мотивы, в частности, казахские, хотя они и не нашли у Аксакова столь разнообразного и яркого отражения, как в произведениях его современника В. И. Даля.
Перу С. Т. Аксакова принадлежат широко известные произведения: «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и другие. Именно эти произведения писателя получили высокую оценку видных деятелей русской демократической культуры. Так, анализируя один из журнальных отрывков «Семейной хроники», Н. Г. Чернышевский подчеркнул, что в рассказе С. Т. Аксакова «много правды», что «правда эта чувствуется на каждой странице».
Герцен считал, что «Хроника» Аксакова помогает «нам сколько-нибудь узнать наше неизвестное прошедшее». Добролюбов и Чернышевский силу «Хроники» видели в ее обличительной направленности против крепостничества. С похвалой отозвались об этой книге Н. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой и др.
Н. Г. Чернышевский восторженно приветствовал «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (М., 1852), назвав это произведение «классическим сочинением», в котором автор одновременно выступает как «художник и охотник вместе».
В «Современнике» появились статьи Н. А. Некрасова и И. С. Тургенева о «Записках...» Аксакова. Некрасов писал, что «превосходная книга С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» облетела всю Россию». Тургенев в своих статьях обратил внимание на то, что охотничьи произведения Аксакова обогащают «общую нашу словесность».
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» высоко оценили не только виднейшие русские литераторы, но и крупные ученые-естествоиспытатели, как Рулье, Богданов, Мензбир и др.
Наше внимание в этой книге особенно привлекают поэтические картины природы Оренбургского края. Нельзя без волнения читать описания незабываемых пейзажей степи в различные сезоны года. Однако Аксаков с горечью констатировал, что в Оренбургской губернии «все переменилось!» и что теперь (к середине XIX в.— К. К.) там нет и десятой доли «прежнего бесчисленного множества дичи». Автор не смог объяснить причины этих изменений в природе края, хотя и отмечал, что «смолоду мы точно были не охотники, а истребители».
Эти мысли автор продолжил в другом своем крупнейшем произведении—«Семейная хроника», где также воспел степные просторы Оренбуржья: «...Все еще прекрасна... обширна, плодоносна и бесконечно разнообразна Оренбургская губерния!..».
Аксаковское видение степных просторов восхищало Н. В. Гоголя. Есть весьма убедительное свидетельство Ю. Ф. Самарина (1877) о глубоком интересе Н. В. Гоголя к природе и жизни населения Оренбургского, или «заволжского», края. Самарин писал, что Гоголь «с напряженным вниманием, уставив... глаза», слушал изустные рассказы С. Т. Аксакова «о заволжской природе и о тамошней жизни». И хотя природа края запечатлена писателем во все сезоны года, однако его описание степного бурана до сих пор является непревзойденным (очерк «Буран», 1834). Аксаков характеризует известную яицкую казачью дорогу, которая от Илецкой Защиты тянется к Яику, далее к г. Уральску, пересекая плоское возвышение под названием Общий Сырт. Следовательно, Аксаков хорошо знал и казахскую часть Оренбургского края.
Однако превосходные картины степных просторов у писателя нередко чередуются с реальными сценами суровой действительности. Когда слух «о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных» в Оренбургском крае достиг русских помещиков, то среди них нашлось много желающих переселиться в этот край. Сюда же собрался на постоянное жительство и помещик Багров (Аксаков). Десять, двадцать, тридцать и более тысяч десятин земли русские помещики, как Багров и другие, покупали за бесценок (сто рублей целковыми да на сто рублей подарками: владельцев земли башкир угощали пивом, медом и жирной бараниной...). Следует заметить, что в рассказе Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли надо?» почти тождественно описаны приемы выманивания земли у башкиров: кулак Пахом за подарки-безделушки отхватывает большую «палестину»... Коренное население края постепенно вытесняется с насиженных и удобных земель. Эту жестокую правду не мог не заметить подлинный художник-реалист.
Между тем в пределах Оренбургского края жили многие народности: казахи, башкиры, чуваши, татары, мордва и др. Несмотря на притеснения со стороны имущих классов, простые люди быстро сближались. В процессе тесного общения у них выработался даже «особый» язык: при этом сами русские «немилосердно» коверкали речь, перемешивали ее с татарскими словами, думая, что так будет понятнее». Аксаков не мог не отметить в своих «оренбургских» произведениях такое замечательное явление, как возникновение и развитие близких взаимоотношений между представителями многих народов края. Об этом писатель повествует во многих местах «Хроники», подчеркивая степень взаимосвязей иногда лишь некоторыми деталями, фактами, придающими им характер подлинности, достоверности. Так, одна из дочерей Степана Михайловича Багрова вышла замуж за Каратаева, «страстного любителя башкирцев и кочевой их жизни — башкирца душой и телом» (139), которого автор еще называет человеком «башкиролюбивым» (125).
Старик Багров очень любил свой халат из тонкой армячины, которая служила предметом торговли на Меновом дворе Оренбурга. Армянину доставляли казахи. Автор считал, что армянина «равнялась с лучшими азиатскими тканями» (156). Его особая любовь к табуну степных лошадей тоже возникла не случайно, а под влиянием общения с местным кочевым населением.