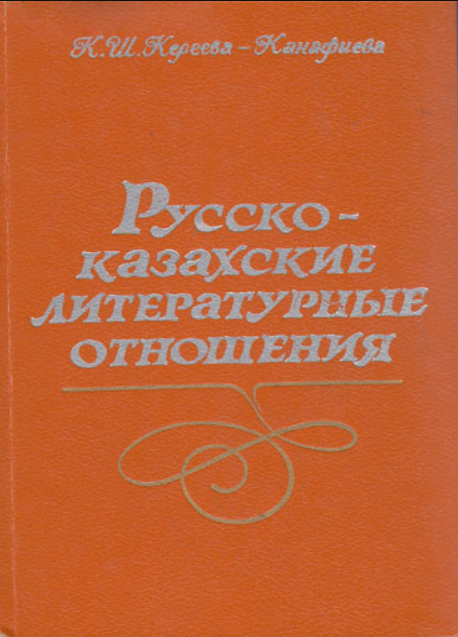Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 14
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Судьба самого писателя сложилась в Туркестанском крае также несчастливо. Как свидетельствуют архивные материалы, переписка об утверждении в должности судебного следователя Ташкента губернского секретаря Н. Ильина затянулась. Это вынудило военного губернатора Сыр-Дарьинской области 12 апреля 1882 г. возбудить перед туркестанским генерал-губернатором Кауфманом ходатайство об утверждении в указанной должности Н. Ильина, который с 19 июня 1881 г. исполнял обязанности судебного следователя Ташкента, хотя и числился делопроизводителем — губернским секретарем Сыр-Дарьинской области.
Однако новый следователь пришелся не ко двору местной чиновничьей верхушке. Она обратилась с просьбой к начальству удалить Н. Ильина «от всех занятий... следователя». Ильин был освобожден от должности и «уволен... в отпуск для приискания себе места в другой области». Но главной причиной, надо полагать, послужило то, что он «попирал» официальные законы.
Таковы некоторые штрихи биографии автора книги. Они «совпадают» с фактами жизни главного героя романа. Нельзя не отметить и созвучность их фамилий (Силин-Ильин).
Итак, Силин вынужден покинуть Ташкент. Прощаясь с городом, он вместе с офицером Беляевым проезжает мимо «развалин прогремевшего в свое время водопровода» и думает, что «скоро и памяти не останется о знаменитом гидравлическом сооружении Пеклевского, при посредстве которого ни один человек не воспользовался ни одной каплей воды». Это был результат махинаций Пеклевского и К°, нажившихся на «строительстве» мифического водопровода.
Характеризуя мир темных дельцов, казнокрадов-чиновников, хлынувших в Туркестанский край, Силин вспоминает «темное царство» Островского и цитирует из «Грозы» следующие строки: «Жестокие нравы в нашем городе, сударь» (ч. I, 352). Здесь Силин открыто намекает и на «жестокие нравы» в Ташкенте.
Герой романа критикует действия царской администрации за то, что она заинтересована не столько в нравственном воспитании своих подданных, сколько в их благонамеренном поведении. Когда Силин высказывает открытое сожаление по поводу того, что столько сил физических и нравственных, времени и средств тратится на водку, то его близкий приятель (Степанов, сторонник официальной линии) отвечает: пусть пьют, лишь бы политикой не занимались» (ч. I, 283; ч. III, 42).
Сочувствие Силина к обиженным и угнетенным наиболее полно выявилось в сцепе допроса пленного казаха. Допрашивавший Сарык был уверен, что перед ним «ханский казначей», спрятавший где-то ханскую казну. А Сарыку хочется до нее добраться. И он с помощниками (миршабы) начинает пытать на глазах отца его детей. Подростков завели в пруд, сели на них верхом и пригнули головы несчастных в воду. Захлебываясь, дети едва успевали перевести дух, как их головы снова и снова окунались в воду. Отчаянные их крики слились с диким воплем отца.
Силин, увидев эту дикую картину, взволновался. Вид офицера, одетого в белый китель, освещенного отблеском факелов, произвел на Сарыка и его головорезов поразительное впечатление. Они разбежались.
К числу положительных образов романа относится и Гаевский — сын героя Отечественной войны 1812 г. Уже внешняя портретная характеристика его вызывает определенные симпатии читателя: это молодой офицер со
значком генерального штаба, высок, статен, блондин с чрезвычайно открытой и симпатичной физиономией (ч.1,30).
Автор характеризует Гаевского как бесхитростного идеалиста, который своим благородством резко выделялся из толпы корыстолюбивых чиновников, наводнивших край. Не случайно, что в романе есть высказывание: «Край прекрасный, но люди дурные».
Гаевский прибыл сюда только «из одной любознательности». Увлекшись идеями поднятия экономического благосостояния Туркестана, он бескорыстно отдал большие деньги на разведение хлопка и улучшение садоводства. Однако эти благие намерения встретили ожесточенное сопротивление. Гаевский случайно узнал о грязной интриге, которая велась вокруг него среди крупных администраторов. Тогда он с еще большей энергией стал разоблачать преступные деяния лиц, нередко бывших в непосредственном окружении у самого правителя края.
Однако его усилия оказались тщетными. Гаевский не смог до конца приоткрыть тайну преступников. Оказалось, что всеми интригами ловко дирижировала некая Башмакова, жена крупного чиновника. Ей удалось оклеветать Гаевского перед губернатором. И тогда «возмутителю спокойствия» не осталось ничего другого, как покинуть пределы Туркестана.
Таких людей, как Гаевский, среди местного офицерства насчитывались единицы. Они были одиноки в своих благородных стремлениях. Об этом свидетельствует и отъезд героя из города: никто не приходит его проводить, лишь солдаты сожалеют о своем командире, который был для них «отцом родным».
В романе дана оценка деятельности генерал-губернатора края Кауфмана, который в беседе с Гаевским вынужден был признать свое бессилие против людей, окружавших его «трон» плотным кольцом.
Показан в романе и деятельный администратор Федоров, прототипом которого послужил Абрамов, бывший губернатор Самарканда. При нем оживляется торговля в крае, увеличивается распашка новых земель. Вокруг Федорова группируются просвещенные лица, которые приступили к энергичному изучению особенностей быта и жизни коренных жителей. Они сумели завоевать симпатии местного населения. Однако деятельность прогрессивных русских людей в романе раскрыта недостаточно. К ним не нашел дорогу и главный герой романа, вынужденный покинуть край, так как потерпел поражение в борьбе с миром темных сил.
Н. Ильин вывел в романе и образ представителя новой нарождавшейся узбекской интеллигенции — Сат-тарбека. Но последний совершенно неправильно понимает смысл присоединения Средней Азии и Казахстана к России и недооценивает его значение в деле прогресса азиатских народов.
Деятельность русских администраторов в крае изображена на фоне тяжелых условий жизни казахского и узбекского населения. Показывая взаимоотношения русских с коренными жителями, автор иронизирует над «цивилизаторской» функцией царских чиновников. В качестве примера их жестокости он приводит сцену экзекуции казахов, у которых крупный администратор края Качалов намерен выведать тайну хранения ханской казны. Окровавленная спина несчастного кочевника, которого пороли в присутствии Качалова, представляла одну сплошную язву. А невдалеке на разостланных Камышевых плетенках стонал другой казах, также обнаженный до пояса и окровавленный. Рядом с ним лежало несколько плетей разных образцов. С этими ужасными инструментами экзекуции Силин был знаком лишь по описаниям. Он также знал, что эти плети были символом власти в руках степных правителей-ханов. А теперь ими пользуются и чиновники.
Царская администрация тесно сомкнулась с реакционной феодально-байской верхушкой, и двойной гнет обрушился на трудящиеся массы узбеков, казахов и других народов Средней Азии и Казахстана. В романе есть эпизоды, прямо рисующие процесс смыкания действий чиновников и местных богачей. Так, казий (судья) Махмуд Атабеков выкрал в бедной семье мальчика. Родители пытаются найти защиту у чиновников Качалова и Пеклевского. Однако последние делают вид, что не понимают стенаний несчастного отца. В романе красочно показан образ волостного правителя, беспощадно разорявшего своих «единоплеменников», но ему вольготно жилось под надежной опекой царской администрации. В романе разоблачается и коварная роль мусульманского духовенства. С одной стороны, его представители (казий Махмуд) в своих грязных делах опираются на царских чиновников, с другой — плетут нити интриг, чтобы разжечь пламя ненависти к «неверным» русским. Так, в заговоре Асатуллы верную службу несет имам — главный ташкентский мулла, собирающийся объявить разбойника Максута святым во имя борьбы с «неверными». Но Максут попадает в руки властей. Качалов его отпускает, намереваясь назначить волостным правителем.
Важной, степенной походкой вышел будущий волостной правитель от Качалова, а затем быстрым движением он очутился в седле аргамака. Попытки казаха-конюха задержать конокрада (его крики: «токта, токта — стой») окончились плохо: Максут нанес тяжелый удар нагайкой по лицу конюха, и тот, обливаясь кровью, со стоном выпустил уздцы лошади.
Вор и конокрад Максут становится ближайшим другом крупного чиновника Качалова: он насильно приводит узбекскую девушку в подарок своему покровителю. Увидев ее, Качалов не мог скрыть восторга. «Ты мне ее отдашь?»—вскричал он.— От такого дастархана (здесь в смысле подарка — К. К.) вряд ли кто-нибудь откажется». Максут не спрашивал мнения несчастной девушки, поскольку считал ее послушной и бессловесной «овцой».
В романе разоблачается не менее постыдная роль и представителей православного духовенства. Так, во время военного штурма Ташкента с крестом впереди солдат шел священник Малов. А на торжественном пуске мифического «водопровода» с речью выступает он же как протоиерей. С пафосом священник говорит о плодах «честного подвижничества на поприще служения государству и человечеству», утверждает, что «поколебать невежественную гордыню неверующих, подорвать в корне фанатизм масс и приуготовить открытие пути в сердца заблудившихся овец» (ч. I, 38) помогут лишь дела, подобные сооружению водопровода. Однако священник печется отнюдь не о добрых делах, а о том, как обратить в лоно православной церкви «неверующих, заблудившихся овец». Если вспомнить, что протоиерей «освещает» авантюрное предприятие Пеклевского — «водопровод», которым так никто и не воспользовался, то речь его приобретает остро иронический смысл.
Роман Н. Ильина имеет отчетливо выраженную демократическую направленность. Автор открыто сочувствует людям из народа.
В романе даны картины крайней степени бедности и нищеты казахов, проживавших в Сузакском районе, в центре которого находился кишлак (вернее, кыстау— зимовка) Сузак. Это был самый крупный пункт в обширной степи, населенный оседлыми жителями. Здесь жили кочевники из различных родов. Зимой они кочевали в низовьях долины, а с началом весны поднимались на склоны соседнего горного хребта. Все их имущество заключалось в скоте, но и он был малочислен, мелок и захудал. Лошади отличались малорослостью и бессилием.
Причину жалкого экономического состояния кочевников автор видел в бесчисленных войнах, проносившихся одна за другой в течение веков над этим несчастным краем. Он пишет, что, как страшный ураган, налетали иноземные полчища диких завоевателей на цветущие долины, не только «смывая» относительно высокую культуру местного населения, но и зачастую до основания истребляя коренных жителей, а «взамен» их оседали сами и смешивались с покоренными народами.
Демократизм Н. Ильина нашел отражение и в едких стихах, сочиненных штабным писарем, который за это был посажен в карцер. Вот эти стихи:
Эх ты, Азия печальная,
Бесконтрольная страна!
Ты с начальством безначальная
Ты с богатствами бедна!
Даже кое-кто из «начальства» знал эти слова. А полковнику Гаевскому о них рассказал его слуга Антон.
В заключение следует отметить, что произведение Н. Ильина несколько необычно. В нем нет «сквозной» сюжетной линии, много действующих лиц, создан ряд удачных образов, но нет главного героя, хотя им можно до некоторой степени считать Силина. Ильин писал роман под впечатлением происходивших событий, свидетелем которых был он сам, поэтому не удивительно, что каждый герой имеет своих реальных прототипов: Гаевский — Раевского, Пеклевский — Янчевского, Силин — Ильина, Федоров — Абрамова и т. д.
Русская критика в свое время отметила публицистический характер этого произведения и указала на его злободневность. Критик Е. Гаршин (1888) писал, что «картины самой безнравственной жизни можно изобразить в самых благопристойных выражениях» и в качестве примера ссылался на начало романа Н. Ильина «В новом краю». Критик считал роман непритязательным, но «чрезвычайно живо и литературно написанным произведением», где повествование «дышит необыкновенной искренностью и правдивостью». По мнению Гаршина, «автор... представил яркую картину беззастенчивых действий» инженеров, грабящих казну, чиновников, расхищающих землю местного населения, дамы, торгующей своим влиянием на начальника края, и т. д. В то же время он утверждал, что «невысокий уровень нравственных требований современного общества открывает подобным господам широкое поприще» (129—130).
Однако в конце своей статьи Гаршин резко изменил ее направленность. Он писал, что роман «не удовлетворяет серьезным требованиям критики и переполнен ужасами бульварной беллетристики». Подобную метаморфозу во взглядах критика, по-видимому, следует объяснить нечеткостью идейных позиций Гаршина, его скоропалительными, необдуманными выводами, основанными на не глубоком изучении достоинств и недостатков романа.
В статье С. Сычевского «Русский современный исторический роман» (1889) дана высокая оценка роману Н. Ильина «В новом краю», который привлек внимание рецензента не только «крайне интересным содержанием», но и «чисто» литературными достоинствами — слиянием «беллетристики и публицистики». Критик, отмечая «искренность и правдивость» произведения, с сожалением писал о недостаточности художественного таланта у его автора. Но он же обратил внимание и на то, что автор удачно показал «целую шайку всевозможных негодяев и преступников... вторгнувшихся в несчастную завоеванную страну», которые облечены «административною властью» и действуют «почти бесконтрольно». «Весь глубокий трагизм бесхитростного романа г-на Ильина,— писал критик,— заключается в правдивом изображении этой отчаянной борьбы чести, правды и долга с диким инстинктом хищного и сладострастного стада озверевших людей».
Действительно, роман «В новом краю» явился ярким документом о первых годах деятельности царской администрации в Туркестане. Произведение Н. Ильина, как и романы Н. Н. Каразина «Двуногий волк», «С Севера на Юг» и другие, можно также по праву считать достойной лептой, внесенной прогрессивным писателем в расширение и углубление русско-казахских отношений. В названных произведениях их авторы вплотную подошли к созданию реалистических образов представителей казахского народа. Однако Ильину, как и Каразину, о чем уже говорилось выше, эта задача оказалась не под силу. Вот почему мы говорим лишь о разумной попытке создания правдивых и самобытных образов казахов. Историческая же ценность произведений Каразина и Ильина заключается в том, что в них зафиксирован определенный отрезок жизни кочевников, показаны их взаимоотношения с русскими, складывавшаяся, вопреки желанию царизма, дружба двух народов.
Вопросам просвещения казахов, изображению различных сторон их жизни уделил внимание в своем творчестве писатель-этнограф П. Инфантьев. В числе его произведений одно из видных мест занимают «Этнографические рассказы из жизни татар, киргизов, калмыков, вогулов, башкир и самоедов», изданные в 1909 г. в Санкт-Петербурге. В предисловии указывается, что хотя в России «насчитывают более 100 различных племен и народностей», тем не менее очень мало литературы по вопросам их быта, нравов, обычаев и верований. В двух рассказах, посвященных казахам, автор подчеркивает, что по своим духовным способностям они «принадлежат к числу богато одаренных народов». Казах «горд, остроумен, насмешлив, энергичен, речь его складна и образна, он весел, любит общество и беседу» (2). Отмечаются добродушие, гостеприимство, любознательность этого народа, который «любит всякого рода новости: поэтому всякий знающий гость для них является в то же время и живой газетой, и чем больше он сообщает новостей, тем более он приятен и желателен».
Инфантьев отмечает, что в Степном крае можно встретить казаха не только со средним, а и с высшим образованием, и «стремление дать образование своим детям... у казахов год от году все более и более усиливается» (речь идет о первом десятилетии XX в. — К. К.) Писатель считает, что казахи «более, чем какой-либо другой из кочевых народов Российской империи, способны делаться образованными, просвещенными людьми». Эта тематика получила отражение в рассказах «Свирель маленького Кытлыбая» (из жизни одного казахского мальчика) и «Детство Якуба», в которых показано стремление казахской молодежи к получению образования в русских школах.
В первом рассказе автор с большой симпатией пишет о сироте Кытлыбае, который в родном ауле скитался из юрты в юрту. Когда мальчик подрос, старый пастух Ибрагим сделал ему из тростника свирель. Благодаря общительному характеру и веселому нраву мальчик стал всеобщим любимцем не только аулчан, но и русских переселенцев, поселившихся по соседству с аулом. Вскоре он научился выводить на своей свирели даже мотивы русской песни «Во саду ли, в огороде Сашенька гуляла».
Большое впечатление на мальчика произвели поезд и железная дорога. Он познакомился с семьей начальника станции, обучался русскому языку у его дочери-гимназистки. Позже Кытлыбай переехал в город, где после приключений и мытарств поступил в заветную гимназию и благодаря успешной учебе стал «стипендиатом». Дорогу Кытлыбаю всюду открывала «волшебная» свирель, а вернее, любознательность мальчика, его веселый и жизнерадостный нрав, беспредельное желание получить образование.
В рассказе «Детство Якуба» описана жизнь казахского аула, расположенного на берегу реки Тобол, «немного повыше города Кустаная».
Рождение Якуба — сына богача — было отпраздновано пышно и торжественно. После угощения началась байга, без которой, как пишет автор, не обходится ни один праздник. Победители получали подарки.
Первые знакомства маленького Якуба с окружающей жизнью и природой связаны с рассказами деда Тулека. Последний отвечает на бесчисленные вопросы внука очень обстоятельно, знакомя его с историей казахского народа, взаимоотношений русских и казахов, дает первые сведения о телеграфе («хитрая, брат, это штука»), понятие о железной дороге («пар тянет за собой громадные сундуки с окнами» и т. д.). Беседы с дедом вызывают у Якуба желание учиться в русской школе. «Только знание может помочь» казахам «во всех их напастях»,— внушал дед внуку.
Причину «напастей» Тулек видел не только в том, что царская администрация «все больше и больше» отнимала у кочевников «родные степи» и заселяла «их своими переселенцами», но и в том, что сами казахи «не умели... жить между собою дружно, постоянно враждовали и этим себя обессиливали». Казахам, чтобы «провести для себя» телеграф и железные дороги, «чтобы уметь это делать,— говорил дед,— надо много знать».
Основам русской грамоты Якуб научился у деда, а затем он поступил в гимназию.
Таким образом, несмотря на сюжетное различие этих рассказов, сущность их одна: и мальчик-сирота Кытлы-бай и сын богача Якуб стремятся учиться в русской школе. Герои рассказов достигают заветной цели, хотя и разными путями.
Автор, безусловно, подметил новую тенденцию у казахов, которые начинают «ясно понимать, что только наука и образование могут помочь им выйти из того бедственного и угнетенного положения, в каком они находятся в настоящее время» (31). Вместе с тем писатель хотел обратить внимание русской читающей публики на необходимость просвещения казахов. Эта чисто просветительская позиция автора заметно проявляется и в других его рассказах. Так, устами Ахмета (рассказ «Детство Якуба») он утверждает, что не одним казахам «в последнее время приходится плохо, но что и русскому крестьянину живется не слаже», и что как у казахов, «так и у русских крестьян один общий враг — это невежество и темнота, с которой можно бороться только грамотностью и просвещением» (41). К тому же кочевая жизнь казахов, зависимая и от капризов природы, как подчеркивает автор, тормозила широкое распространение просвещения. Но главным врагом казахского и русского народов был царизм, державший их в тисках невежества и безграмотности,— таков авторский подтекст.
Тема дружбы казахского и русского народов положена в основу рассказа «Тамыр» («Друг»).
Рассказ ведется от лица старого, заслуженного полковника, который родился и вырос среди казахов, говорил на их языке, дружил с казахскими мальчиками, обучавшимися с ним в Омском кадетском корпусе. Среди сверстников-казахов у героя рассказа был тамыр, по имени Аладжан, с которым он еще в юности заключил по казахскому обычаю «неразрывную дружбу на всю жизнь». Обычай тамырства у казахов, повествует он, заключается в следующем. Желающие сделаться тамырами, то есть друзьями, крепко прижимаются грудью через обнаженный меч, при этом клянутся всегда и во всем помогать друг другу. Они верили в тамырство и свято хранили дружбу.
Аладжан был сыном бия, который вёл торговлю с Бухарой и Хивой, пользовался влиянием на окружающих казахов и «совершенно открыто защищал выгоды» для казахов «от подданства России, а никак не от Хивы» (7).
В середине апреля 1870 г. герой рассказа отправился в кочевку своего тамыра, где ему оказывают радушный прием. Перед выездом на охоту Аладжан предупредил своего друга, что нужно переодеться в казахскую одежду, поскольку «русских ищут не только враждебные русским киргизы, но и хивинцы». Ночью, когда охотники возвращались в аул, на них напали туркмены. Надеясь получить за русского офицера выкуп, они увели его к Кара-Бугазскому побережью Каспийского моря. Когда стало известно, что правительство не даст выкупа, офицер был продан хивинскому купцу, который отправил его с караваном через безводные пустыни Кара-Кумы. Пленнику, мучившемуся от жажды, давали воды по капле.
Зиму он провел в оазисе, где пас стадо. Весной хозяин решил продать его на невольничьем рынке в Хиве. Но там он подарил пленника своему повелителю — Сеид-Магомед-хану, как военного специалиста «для обучения военному искусству на европейский образец своих полудиких, неорганизованных шаек наездников» (23). Однако русский офицер не согласился у него служить. Тогда его бросили в тюрьму.
Все это время Аладжан не терял надежды найти своего друга. От старого пастуха он узнал, что проследовавший караван туркменов провёл закованного в цепи русского в военной форме (36). В Хиве Аладжан с трудом напал на его след. Узнав, что охранники любят опиум, он с помощью этого наркотика организовал побег Друга.
Заканчивается рассказ тем, что его герой в 1873 г. участвует в походе русских войск против Хивы в качестве человека опытного, знающего местность, язык и нравы хивинцев.
Таким образом, П. Инфантьев повествует о благородной, бескорыстной и самоотверженной дружбе казаха и русского, которая выдержала тяжелые испытания. Подобные взаимоотношения представителей двух народов, подчеркивает автор, являются типичными.
В приключенческой повести «На родине первых людей» Инфантьев продолжает начатую тему. Он описывает трогательную дружбу двух юношей, учеников верненской гимназии — русского Павла Семенова и казаха Якуба Тулекова. Их дружба также прошла через цепь сложных испытаний и событий. Во время каникул Якуб приглашает Семенова в длительное путешествие с караваном своего отца Барлыбая, занимавшегося коммерцией. Это был коренастый, средних лет человек, с широким смуглым лицом, обрамленным небольшой клинообразной бородкой, с выдающимися скулами, толстыми губами, приплюснутым носом и небольшими черными глазами. Несмотря на свою тучность, коммерсант был подвижен, энергичен. Его образ олицетворяет зарождение нового социального типа в казахском обществе.
Радуясь, что Семенов поедет с сыном, Барлыбай вместе с тем опасается за его судьбу во время путешествия. Но выход был найден: Семенов обрил голову, переоделся в казахскую национальную одежду и стал выглядеть настоящим джигитом. Его теперь не узнавали даже верненские гимназисты. После этого Якуб стал выдавать Семенова за своего родственника.
Выйдя из Верного, караван направился к Иссык-Кулю; юные путешественники узнали, что в «озере много горячих источников, воды его постоянно заменяются менее студеными слоями, поднимающимися из глубоких пропастей дна». Перейдя через перевал, караван достиг Аксу. В пути юноши узнали много нового о жителях края, познакомились с их этнографическими особенностями и т. д. Их внимание привлекли «мертвые города», погребенные под песками. Высказывалось предположение, что когда-то здесь была «колония греков», так как «туземцы находят золотые и серебряные» вещи и монеты, имеющие греческое и византийское происхождение.
Одним из острых эпизодов повести является неудачная охота Якуба на тигра: разъяренный хищник готов был разорвать смельчака, но его спас Павел Семенов. После этого события Якуб предлагает товарищу стать его тамыром. Совершается соответствующий обряд, скрепивший дружбу. В последующем друзья посещают «мертвый город» в пустыне, где Семенов во время черной бури заблудился. И здесь спасителем его стал Якуб. Путешествуя, гимназисты наблюдали редкую картину боя между архарами, видели яков и громадных грифов. Друзья были на волосок от смерти, когда попали в район наводнения. Через всю повесть проходит мысль о верности и преданности друзей — казаха Якуба и русского Павла — юношей любознательных и смелых.