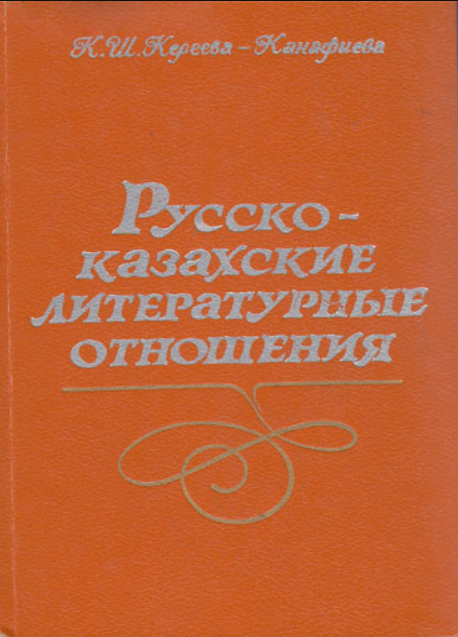Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 16
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
В очерке «Поездка в Кульджу» (178—206) описывается Семипалатинск. Выйдя оттуда с купеческим караваном, направлявшимся в Чугучак и Кульджу, путники приблизились к зимовьям казахского султана Кош-Магомета. Небольшой деревянный домик окружало десяток юрт. Зимовка была расположена на берегу озера Сары-булак. Сам султан произвел противоречивое впечатление. То он рассыпался в самых изысканных комплиментах, то говорил такие слова, что нужно было уши закрывать; то с благоговением касался руками глаз и бороды, делая знаки религиозного омовения; то богохульствовал. Султан не ел мяса, приготовленного рукою немусульманина, вместе с тем он «пил ром напропалую»; от души и щедро делал подарки, но силою вымогал «подарки» от других.
В молодости султан был лихим барантовщиком, теперь он представлял слабого старца. С грустью глядел он на отправляющуюся барантовать молодежь. Автор сравнивал старого султана с солдатом, выбитым пулей из рядов: он смотрит, как несутся мимо него на битву, на славу его ратные товарищи.
В знак особого доверия султан пригласил русских гостей посетить юрты своих жен. Автор писал, что в степи каждая замужняя женщина имеет свою собственную юрту, большею частью приносимую с собой в приданое. Речь, конечно, шла о юртах богатых казашек. Так, юрта старшей султанши поражала богатым убранством: на полу лежали ковры, внутренняя поверхность решеток (кереге) была застлана тонким войлоком, «испещренным тесьмами и азиатскими рококо». С правой стороны стояли раскрашенные сундуки; «турсук, или большой кожаный мешок с кумысом, занимал почетное место и отличался роскошью отделки» (180—181).
Султанша приветствовала русских гостей в самых изысканных выражениях. Во время беседы из ее уст слова лились струей; султанша считалась «умнейшею и красноречивейшею женщиной в степи и не даром: она одна властвовала над своим мужем самоуправно, и была в состоянии смирять его неукротимый характер и поддерживать влияние на народ» (181).
В разговоре с русскими султанша «искусно умела блеснуть умом и знанием света кочевого» (181). Автор в связи с этим заметил, что у казахского народа «даром слова оценивается дар ума, а победителем в красноречии всегда признается тот, кто сказал последнее слово», то есть тот, кто своего противника довел до такого состояния, когда он уже не может ни противоречить, ни отвечать и вынужден умолкнуть.
Если старшая султанша отличалась умом и красноречием, то младшая заслуживала пальмы красоты. «Удивительная белизна лица и нежные, голубоватые жилки, сквозившие местами сквозь тонкую кожу, придавали ее лицу вид страдания или душевной истомы». Автор писал о черных огненных глазах, о розовых губках и слегка выдавшихся скулах... Высокий конусообразный, белый, как снег, головной убор лишь подчеркивал пряди ее черных и лоснящихся, как вороново крыло, волос. Широкая одежда, писал восхищенный автор, состоявшая из бархата и парчи, обремененная металлическими бляхами, кольцами и талисманами, и полновесное, кованое кольцо вокруг шеи, видимо, тяготили ее, скрывали ее легкий стан и сжимали тяжестью шею; а из-под одежды искусно выставлялась ножка, совершенство красоты, ножка, каких нет в Европе (182). Но недолго любовались русские красотой молодой султанши: ревность старого султана заставила их покинуть юрту красавицы.
Проезжая мимо нити каравана, где было почти 400 человек, Ковалевский любил прислушиваться к казахским песням, которые тихо и на унылый лад лились отовсюду. Автор отмечал, что казах почти всегда импровизирует свои песни: «Он поет, что вспадет ему на глаза или на мысль» (185). Мир фантазии кочевника чаще «населен» верблюдами, лошадями, баранами, и о них он поет. Нередко казах воспевает любовь батыров и их ратные подвиги, «напоминающие... европейских героев рыцарских времен» (185).
Ковалевский писал, что казахский певец «в беспорядке нижет чудовищные образы своего воображения и предметы повседневной жизни на причудливую нить своей песни, которая тянется иногда по несколько часов сряду и обрывается большею частью неоконченная» (185). Писатель отмечал, что казахи любят употреблять сравнения в своих песнях, поскольку «простое изложение предмета темно».
В казахских песнях звучала часто рифма. А размер их «приноровлен» к напеву. Отмечая эти достоинства, Ковалевский приводит свой перевод одной из песен, которую импровизировал кочевник на пути к аулу. Автор писал, что сжатость казахского языка требует шестистопного стиха в русском переводе, а «хорей наиболее приличествует размеру подлинника». Взгляды Ковалевского на сущность перевода произведений казанской поэзии на русский язык, насколько нам известно, представляют первую попытку теоретического обоснования в русской литературе принципов реалистического перевода с казахского. В этом отношении Ковалевский на много лет опередил будущих переводчиков казахской поэзии. Вот один из его переводов:
Караван поднялся из-под Аир-реки;
Конь мой белый ржет и не дается в руки.
Солнце выслало зарю и вслед само идет
Встречу месяцу, а месяц скучился, не ждет.
Конь мой мечется, почуяв дым аульный,
И на дым понесся быстро мой разгульный.
Сердце чуяло родной, аульный кров давно,
И вздрогнуло, но затихло, бедное, оно:
Конь мой, конь! Не мчись, тебя никто не встретит!
Сердце вещее тебе ответит:
Кто нас ждал,— теперь не ждет!
Она ушла, и не придет!
«Странствователь по суше и морям» был создан Е. П. Ковалевским в самом начале его творческого пути. В последующие годы из-под пера писателя выходили романы и повести, рассказы и очерки, которые были написаны под разными псевдонимами (Егоров, Н. Безымянный и др.) Е. П. Ковалевский до конца своей жизни успешна сочетал литературный труд с активной общественной деятельностью. Умер он в конце сентября 1868 г., оставив по себе чистое и честное имя.
Егор Петрович Ковалевский, видный деятель русской литературы и культуры, внес известный вклад в разитие русско-казахских связей. Его богатое творческое наследие еще ждет своих исследователей.
Яркий след в истории русско-казахских литературных отношений оставил Д. Л. Иванов (1846—1924).
Дмитрий Львович Иванов — видный ученый и писатель России конца XIX — начала XX в. родился 26 сентября 1846 г. в Нижнем Новгороде в семье обедневшего дворянина.
В 1864 г. после успешного окончания гимназии Дмитрий Иванов поступил на филологический факультет Московского университета. Передовые студенты крупнейшего заведения находились под влиянием идей революционеров-демократов. Так, под непосредственным воздействием идей Н. Г. Чернышевского юноша Иванов вместе с другими студентами создал переплетную артель. Организаторы ее поставили цель «трудом добывать средства к жизни и на учение». Вместе с тем молодые последователи Чернышевского стремились распространить в обществе идею об организации «трудовых ассоциаций с привлечением в последние простых рабочих».
В начале мая 1866 г. Д. Иванов был арестован по делу Д. В. Каракозова и «по высочайшему повелению» посажен в Петропавловскую крепость. В делах управления коменданта Санкт-Петербургской крепости указано, что дворянин Дмитрий Иванов содержался в отдельных казематах Невской и Никольской куртин.
Верховный суд, состоявшийся 14 июля, обвинил Д. Иванова в принадлежности к тайному обществу «Организация» и в недонесении о существовании известного ему революционного общества «Ад» и приговорил к каторжным работам. Однако, учитывая молодость подсудимого (Д. Иванову было лишь 19 лет), 24 сентября каторгу заменили ссылкой в Сибирь на поселение, которая позднее была также заменена не менее тяжким наказанием — отдачей в солдаты «рядовым с правом выслуги».
Учреждённая Николаем I мера наказания революционно настроенных студентов — исключение из высшего учебного заведения с отдачей в солдаты и последующим направлением на театр военных действий — сохранялась еще долго в России. Так, Д. Л. Иванов, исключенный из университета, был отдан в солдаты и направлен в Оренбургский линейный батальон, а оттуда в Ташкент (1867). В следующем году за отличия в боевых действиях в Туркестане он был произведен в унтер-офицеры.
Вот как описывал молодой Иванов свои первые впечатления об обстановке тех лет в Туркестанском крае. Много разного люду — военных чиновников и предпринимателей, просто щедринских «ташкентцев» в поисках легкой славы и удачи направлялись в богатый край. Большинство искателей счастья, отмечал автор, растворялось в военной среде. Однако среди них встречались отдельные личности, которые из любознательности к новой природе, обстановке и населению стали собирать кое-какие коллекции, составлять отчеты и описания бытовых особенностей местных жителей.
Было бы крайне несправедливо считать, что в Туркестане служили лишь одни щедринские «господа-ташкентцы». К счастью, здесь были и прогрессивные русские деятели, которые способствовали поступательному развитию края. Одним из них являлся Д. Л. Иванов — выдающийся ученый, талантливый писатель и художник.
В годы пребывания в Ташкенте Д. Иванов проявил большой интерес к природе, естественным богатствам и населению края. В 1870 г. он участвовал в работе военно-научной экспедиции, направленной в верховья реки Зеравшан и к озеру Искандер-Куль, в составе которой были супруги ученые А. П. и О. А. Федченко.
В 1871 г. Иванову присвоили офицерский чин, а в 1873 г. он вышел в отставку, чтобы завершить образование. В том же году он поступил в Петербургский горный институт, по окончании которого в 1878 г. возвратился в Туркестан. С 1879 по 1882 гг. Д. Иванов —чиновник особых поручений при генерал-губернаторе, и в эти же годы он совершает обстоятельные и многосторонние исследования Ферганской, Самаркандской, а также Сыр-Дарьин-ской и Семиреченской областей. После поездки по предгорьям Таласского Алатау Иванов пишет путевые очерки «Поездка в Алатау в 1879 году», вышедшие в Ташкенте в 1880 г. Они представляют интерес для современной этнографии казахского народа. Однако при оценке их следует учитывать и замечания самого автора: «Я далеко не могу похвалиться точностью своих наблюдений этнографического характера: ни время, ни мои специальные работы ни отсутствие строгих и определенных программ в отношении к вопросам населения не позволили мне остановиться на этих последних» (25).
Д. Л. Иванов признавал, что его этнографические исследования носят случайный характер и представляют «летучие, коротенькие наблюдения не по плану, а постольку, поскольку факты сами бросаются в глаза». Тем не менее, несмотря на существенные оговорки автора, этнографические материалы его имеют весьма важное научное значение. Это связано, в частности, еще и с тем обстоятельством, что Д. Л. Иванов вел этнографические наблюдения в таких труднодоступных местах, где крайне редко мог бывать специалист-этнограф.
Высоко в предгорьях Алатау исследователь впервые встретился со своеобразной «смесью кочевых условий с земледельческими». В малодоступных для «аульных стоянок» горных местах «исключительно скитается кочевник, перегоняя с горы на гору, из ущелья в ущелье свое богатство. Ранней весной он ползет в горы за своим стадом, осенью спускается вниз к своим зимовкам». Однако постоянно происходит оттеснение казахского «полуосед-лого кольца к горам», что вынуждает кочевников «хлопотать о заготовке части корма». С этой целью они начинают сеять джонушку, заводят немудрое поле под хлеб. Постепенно закладываются основы ос.едлости. Но, как справедливо отмечал Д. Л. Иванов, этот процесс происходил болезненно: «Оседлость, хромая и убогая, неумелая и ленивая, тупая и вынужденная, мало-помалу возникает и прививается там, где ее прежде не было».
Другим коренным обитателем этого края Д. Л. Иванов считал оседлого хлебопашца и лесовода, которого характеризовал как торговца, трудолюбивого и предприимчивого человека. Различия в хозяйстве кочевника и «опытного фермера» настолько разительны, что в зимовках на вопрос путешественника, нет ли в продаже дыни и масла, казахи отвечали с горькой улыбкой: «Мы этого совсем не знаем, где уж нам продавать» (34).
Однако общение кочевников с земледельцами вынуждает их «непременно учиться», «учиться плохо, поневоле, но все-таки учиться такому умению жить». Кочевник воспринимает от своего соседа не только культуру земледелия, но и «грамотность, религиозные убеждения и обрядность». Однако и земледельцу приходится «поступиться» некоторыми из своих «верований и обычаев», в частности, и «его женщина перестает кутаться, живя рядом с независимой» казашкой. Иванов считает, что «грамота и религиозность всецело передаются» казахам от их оседлых соседей.
Необходимо отметить, что Д. Л. Иванов еще в конце 70-х годов XIX в. вполне объективно оценивал значение экономических факторов во взаимоотношениях народов. Более того, он подчеркивал, что «первая сила в деле влияния цивилизующего — это, без сомнения, экономическая жизнь, умение пользоваться силами местной природы». Действительно, коренные оседлые жители края умеют «с таким упорным трудом и веками приобретенным знанием приспособляться к местным климатическим и почвенным условиям», они представляют «сильную массу». И снова Д. Л. Иванов замечает, что именно экономический фактор является «могучим орудием» проникновения влияния земледельческой культуры. Вместе с тем ученый и писатель ошибочно полагал, что русская цивилизация могла проникнуть в казахскую степь лишь через посредство оседлого коренного населения. Он явно недооценивал темпы проникновения русской культуры и ошибочно переносил результаты своих наблюдений в двух уездах на обширное пространство казахских степей. Тем не менее многие наблюдения Д. Л. Иванова сохранили исторический интерес и сегодня.
Ознакомившись с жизнью пастухов-казахов («скитальцев»), Д. Л. Иванов писал, что горные уголки имеют совсем особую жизнь, свою физиономию, свои заботы и горести. В горах бродят настоящие «сыны природы», которые живут сказочной пастушьей жизнью далеких времен. Там автор «познакомился с этой маленькой простодушной жизнью». С неподдельным радушием и любопытством приняли пастухи гостей, предложив им все, что у них было. Для пастухов это был «огромный праздник», который давал к тому же запас новостей и рассказов на целый год.
Всю обстановку сердечной встречи с простыми людьми Д. Л. Иванов передал в следующих строках: «Костер, вся кошемная рвань, стащенная к нашим услугам, молодой барашек, пластуемый по поводу пиршества, айран в протухлом турсуке, наивнейшие рожицы хозяев-оборванцев, целая куча страшных рассказов: про волков, разбойников и прочие напасти пастушьей жизни». Так прошел вечер среди пастухов.
А на утро Д. Л. Иванов выступал уже в роли судьи, поскольку проводник-казах представил его как «тауларны-хаким» (горный чиновник). Пастушьи споры были разобраны. Справедливость восторжествовала. Все люди остались довольны и благодарили гостя. Кому, как не ему, можно было разобрать «горные» споры, до которых никому нет дела? «Кому же войти в интересы этих людей, до которых не доходило, да и не дойдет никакое свое начальство?».
В путевых очерках Д. Л. Иванова «Поездка в Алатау в 1879 году» подняты острые вопросы, затрагивавшие проблемы взаимоотношений народов Средней Азии и Казахстана, а также взаимоотношений и взаимовлияния русских, казахов, узбеков и др. Вместе с тем автор с особой любовью и симпатией описывал простодушных «детей природы»—казахских пастухов, подчеркивая, что они, несмотря на бедность и оторванность от остального населения, сохранили лучшие человеческие качества.
Впоследствии И. В. Мушкетов писал, что в 1879 г. горный инженер Д. Л. Иванов сделал интересную поездку по горам Таласского Алатау, где нашел целую систему значительных ледников в верховьях ряда рек. В 1880 г. Иванов стал спутником И. В. Мушкетона в экспедиции на Зеравшанский ледник, а последующие два года он производил геологические исследования в разных местах Туркестана.
В архиве И. В. Мушкетова сохранилось эпистолярное наследие Д. Л. Иванова, свидетельствующее о большой дружбе двух деятелей русской культуры и науки. Эти письма ценны тем, что в них Иванов дает яркие и тонкие характеристики положения края, а также отдельных лиц из состава туркестанской администрации.
К концу пятилетнего пребывания в Туркестане Д. Л. Иванов с горечью писал И. В. Мушкетову: «Служить здесь среди теперешней и еще вновь ожидающейся вакханалии человеку малому и не искусившемуся в танцах не полагается, ибо будешь служить «не богу, а Мамоне». Далее он отмечал, что все эти годы жил надеждами на то, что «путаница, дезорганизация и кляузы... все сие срамное представление кончится». С глубоким сожалением Иванов сообщал, что его научные труды не продвигаются и он «не имеет возможности над ними работать, поскольку во всем этом виновата тут наша каторга», которая способна «осадить кого угодно». Однако им собран большой и интересный материал, над которым сейчас работает (речь шла об обследовании долины Ферганы на нефть).
Д. Л. Иванов был человеком разносторонних дарований и разнообразных интересов. Он занимался не только геологическими исследованиями, но и изучал этнографию казахов, «горных киргизов» и таджиков, вел наблюдения над климатом края. Одним из первых русских ученых он обратил внимание на местные архитектурные памятники. Свои тонкие наблюдения в этой области автор сопроводил серией великолепных рисунков. По мнению биографов Д. Л. Иванова, его рисунки, этюды и альбомы могли бы составить целый отдел, например, в будущем музее туркестановедения. Не случайно, что Д. Л. Иванов вместе с известными путешественниками А. П. и О. А. Федченко, И. И. Краузе и другими составил каталог Туркестанского отдела Политехнической выставки в Москве 1872 г. Выступал он также составителем третьего выпуска сборника «Русский Туркестан» который пользовался широкой известностью и содержал документальные данные «о всех бывших в Средней Азии движениях и военных действиях с 1839 по 1871 годы». Кроме того, в сборнике были опубликованы песни туркестанских солдат, а также заметки «О производительности Туркестанского края по отношению к войскам, в нем расположенным, и статистические сведения о последних». В 1873 г. Д. Л. Иванов был командирован Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии в Вену для организации Туркестанского отдела Всемирной выставки.
Вокруг Д. Л. Иванова группировались прогрессивные деятели Туркестанского края, лица, в прошлом подвергавшиеся репрессии за свою революционную и прогрессивную деятельность. Эти лица находились под негласным надзором местных властей.
Д. Л. Иванов был близок к известному Хомутовскому кружку русских передовых деятелей в Туркестане. Название кружка, как уже отмечалось, связано с именем Петра Ивановича Хомутова, политического ссыльного, жившего в Ташкенте с 1870 г. и до конца своей жизни. Вокруг П. И. Хомутова и Д. Л. Иванова группировалась молодежь. Они «старались воплотить в жизнь идеи Чернышевского по его роману «Что делать?». Молодые девушки, например, учились кройке и шитью «и по завету героини романа Веры Павловны открывали швейные мастерские».
Власти Туркестанского края были, естественно, осведомлены о круге знакомых Д. Л. Иванова. И, конечно, они не могли забыть его «крамольного прошлого». В 1883 г. Д. Л. Иванов был официально «оставлен вне штатов», однако продолжал вести широкую общественную деятельность. Он был председателем и членом многочисленных научных комитетов, комиссий, обществ. Оценивая его заслуги, А. И. Хлапонин и А. Н. Криштафович (1925) писали: «Высоты Памира, пустыни Средней Азии, долины и горы Туркестана, дебри Уссурийского края, далекий Сахалин и Северный Кавказ, как и многие другие места, видели в своих пределах Дмитрия Львовича».
Д. Л. Иванов оставил после себя около 60 научных работ, посвященных вопросам геологии, географии, археологии, этнографии, экономики и т.д. Вспоминая о своих путешествиях на Памир и в долину Алая, о службе на Северном Кавказе, в царстве Польском и Иркутском горном управлении с его необъятной областью от Тихого до Ледовитого океанов, Д. Л. Иванов всегда с любовью и гордостью говорил о Туркестане: «Мы, старые турке-станцы и пионеры по исследованию в том крае, невольно чувствовали нашу связь с ним, вспоминая пережитые в молодости впечатления при путешествиях по этой грандиозной и оригинальной стране, приучившей нас понимать размеры и разнообразие природы и ее особенностей». Далее он указывал, что «Туркестан был настоящим нашим воспитателем»— громадной областью науки о природе.
Совершенно не изучено и по-настоящему не оценено педагогическое наследие Д. Л. Иванова. Между тем он уделял значительное внимание вопросам эстетического воспитания детей в раннем возрасте. В 1912 г. Иванов выпустил специальное пособие для матерей под названием «Дошкольное рисование». Пособие было богато иллюстрировано: в тексте имелось 636 рисунков, из них 70 даны в красках.
Философские размышления Д. Л. Иванова о значении рисования в эстетическом воспитании детей возникли и сформировались далеко не случайно. Он был знаком с трудами отечественных и зарубежных ученых и педагогов, посвященных эстетическому воспитанию детей. В частности, Иванов ссылается на труды Л. Тодда, который считал, что «рисование — это всемирный язык: оно учит нас понимать язык, которым говорит каждый лепесток, былинка, раковина и кристалл о своей Красоте, Грации и Целесообразности».
Ссылаясь на мнение известного русского педагога К. Д. Ушинского, Д. Л. Иванов указывал, что «рисование воспитывает дух» и помогает выработке умения видеть взаимосвязи явлений. Умение рисовать облегчает школьное обучение наукам, оно полезно и в практической деятельности взрослого человека.
Появление пособия по «Дошкольному рисованию» Д. Л. Иванова — явление закономерное. Автор был крупным художником-любителем (Чабров, 1966). В его рисунках, зарисовках получили реалистическое отражение многие стороны жизни казахского народа и природа края. Наряду с произведениями таких выдающихся художников, как Т. Г. Шевченко, В. В. Верещагин, реалистические рисунки Д. Л. Иванова запечатлели многие стороны жизни казахов (портреты людей, их костюмы, внешний и внутренний вид жилищ и др.)» которые имеют самостоятельное значение при изучении русско-казахских культурных связей.
Известный интерес с точки зрения педагогики представляет сборник его сказок «Зайка-играйка, Глазунсова и другие рассказы няни Никифоровны». Сказки Д. Л. Иванова не только занимательны, но и народны, имеют большое воспитательное значение.
Таковы некоторые сведения о педагогическом наследии Д. Л. Иванова.
Во время многочисленных путешествий по Средней Азии и Казахстану Д. Л. Иванов не мог не уделить определенного внимания встречавшимся то там, то здесь многочисленным памятникам древности. В его работе «По поводу некоторых туркестанских древностей» (1884) приведены довольно обстоятельные сведения о некоторых памятниках седой старины. О них в литературе до сообщения Д. Л. Иванова вовсе не было никаких сведений или упоминалось лишь вскользь. Между тем Д. Л. Иванов свои описания сопроводил наглядными набросками карандашом. Автор сам считал свою коллекцию археологических находок разрозненной, не систематизированной, не обработанной. И тем не менее данный его труд представляет научный интерес и в настоящее время.
Так, Иванов писал, что на развалины Ахыр-таша следует смотреть как на одно из замечательных древңих архитектурных сооружений в казахских степях. Далее он указывал, что «для подобной циклопической затеи нужно было иметь огромные средства. Кроме искусного архитектора и прекрасных опытных мастеров необходимо было располагать массой рабочих рук и огромным богатством». Автор привел несколько казахских легенд, связанных с этим сооружением.
Д. Л. Иванов был не только ученым, художником, педагогом, но и замечательным писателем, создавшим наряду с другими произведениями цикл очерков и рассказов о казахском народе. Штрихи творческой биографии писателя следует закончить высказыванием его современника, выступившего под псевдонимом Я-ий на страницах журнала «Природа и охота» (1876). Он писал, что Д. Л. Иванов несомненно обладал «крупным литературным дарованием». К сожалению, его сочинения, отмечал критик, «представляющие ряд правдивых, мастерски исполненных роскошных картин туркестанской жизни, так и канули в реку забвения».
Во время многочисленных экспедиций и путешествий Д. Л. Ивановым были открыты не только новые месторождения угля, нефти, минералов, но и совершенно необычные стороны жизни коренного населения степей и пустынь, гор и долин обширного края. Близкое знакомство с бытом и обычаями, с песнями и сказками, с духовной культурой народов Туркестана помогли Д. Л. Иванову создать целый ряд реалистических художественных произведений, способствовавших сближению народов края, в частности, казахского населения с русским.