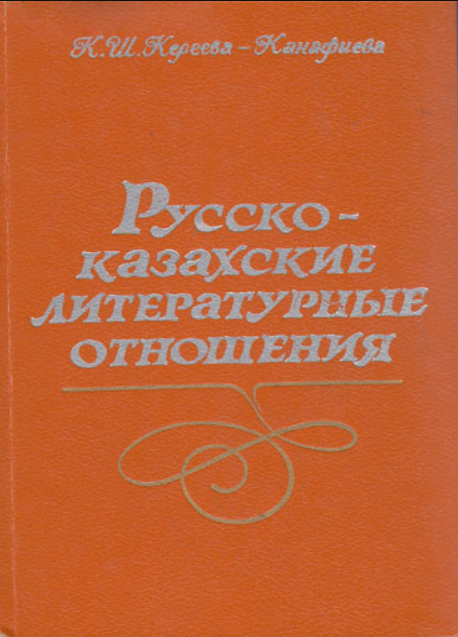Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 6
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Отмечая факты несправедливого захвата лучших земель казаками и переселенцами, Успенский писал о росте обнищания бедных слоев казахского народа, об усилении их эксплуатации со стороны казачьей верхушки и богатых переселенцев. В то же время трудовые массы русского крестьянства сами находились в полной зависимости и от стихийных сил природы, и от власть имущих.
Своим очерком Г. И. Успенский подводит читателя к выводу, который он, естественно, не мог высказать: общая беда и кочевников, и земледельцев заключалась в том, что они вели индивидуальное экстенсивное хозяйство и жили в условиях быстро развивавшихся капиталистических отношений и усиления эксплуатации трудящихся. Никто до Успенского в русской литературе не подвергал такому глубокому и тщательному анализу столь жизненный вопрос, как землепользование в казахских степях. В отличие от некоторых поверхностных наблюдателей, замечавших у «инородцев» лишь экзотические стороны жизни, Глеб Успенский объективно показал истоки ее трагизма.
Вместе с тем следует отметить, что писатель не до конца понимал причины переселенческого движения. Царизм, переселяя «излишки» крестьян из центральных губерний в казахские степи, пытался тем самым ослабить остроту крестьянских волнений, связанных с земельной нуждой. Писатель, вставая на защиту интересов кочевников, не видел исторической перспективы. Между тем освоение обширных степных просторов казахских степей неизбежно вело к сближению русского трудового крестьянства с трудящимися коренного населения, к созданию их общего союза против политики царизма. Последний оказался исторически не способным к решению не только аграрного вопроса в целом, но и к решению задачи освоения казахских степей, что стало возможным лишь в условиях социалистического строя. Поэтому переселение крестьян в казахские степи, вопреки реакционным целям царизма, имело далеко идущие последствия: значительно ускорился процесс проникновения капиталистических отношений в степь, процесс ломки патриархального уклада у казахов, распространения в степи передовой земледельческой культуры и др. Именно об этих последствиях массового переселения крестьян писали такие прогрессивные русские писатели, как Д. Л. Иванов, Н. Н. Каразин и др.
Переселенческое движение, охватившее значительные массы крестьян, привлекало внимание многих писателей и журналистов России. Однако лишь Г. И. Успенский сумел рассмотреть эту проблему с позиций широкого гуманизма. Естественно, что В. И. Ленин имел серьезные основания для высокой оценки его литературной деятельности.
Особый интерес представляет изучение инонациональных мотивов в творчестве Льва Николаевича Толстого (1828—1910). Известно, что существует огромная критическая литература, посвященная различным проблемам творчества гениального писателя, однако в ней почти нет работ, в которых обращалось бы внимание, например, на казахстанские мотивы в произведениях великого художника. Между тем Л. Н. Толстой, поднимая в своих произведениях животрепещущие проблемы современности, выступая как выразитель идей и настроений миллионов русского крестьянства, не мог остаться безучастным и к судьбам малых народов окраин России: башкир, казахов и других «инородцев».
Необходимо учитывать, что при характеристике творчества Л. Н. Толстого исследователи опираются на широко известные труды В. И. Ленина, в которых гениально обобщены и истолкованы постоянные идейные искания писателя. В. И. Ленин подчеркивал, что творчество Л. Н. Толстого является «шагом вперед в художественном развитии всего человечества», но вместе с тем Ленин указал и на противоречия в его взглядах, корни которых были отражением глубоких противоречий того исторического периода.
По определению В. И. Ленина, Л. Толстой, «принадлежа, главным образом, к эпохе 1861—1904 годов,... поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость».
Именно в этот период совершается ломка патриархального уклада крестьянства, выразителем чаяний которого был великий реалист. Он «сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования» (В. И. Ленин).
Л. Н. Толстой, разумеется, понимал неразрывную связь русского крестьянства с угнетенными народами окраин. Основные противоречия эпохи, конечно, касались в известной мере и «инородцев». Именно об этом свидетельствуют наблюдения художника-реалиста над жизнью кочевников во время его довольно продолжительного пребывания в Оренбургском крае и нашедшие отражение в некоторых произведениях Л. Н. Толстого. Глубокий интерес писателя к жизни народов окраин подтверждают не только его отдельные произведения, но также воспоминания и письма близких людей.
В творческой биографии Л. Н. Толстого Оренбургский край занимал заметное место. Первая его поездка сюда состоялась в 1862 г. в сопровождении слуги А. С. Орехова и крестьянских мальчишек-школьников В. Морозова и Е. Чернова.
В своих воспоминаниях И. Л. Толстой писал: «Папа ездил туда (в оренбургские степи.—К. К.) еще до своей женитьбы в 1862 году, потом, по совету доктора Захарьина, у которого он лечился, он был на кумысе в 1871 — 1872 году и, наконец, в 1873 году мы поехали туда всей семьей». В поездке 1871 года вместе с ним был С. А. Берс, шурин писателя, и слуга И. В. Суворов. Л. Н. Толстой жил в Каралыке. Отсюда он писал в Ясную Поляну: «Живем мы в кибитке, я нашел приятеля. Столыпин — атаманом в Уральске и ездил к нему и привез оттуда писаря, но диктую и пишу мало. Лень одолевает при кумысе... Я стреляю уток, и мы ими кормимся, сейчас ездил верхом за дрофами, как всегда, только спугнули,— и на волчий выводок, где башкирец поймал волчонка. Кумыс лучше никто не описал, как мужик, который на днях мне сказал, что мы на траве, как лошади. Ничего вредного самому не хочется: ни усиленных занятий, ни курить (Степа меня отучает от курения, и дает мне, все убавляя...); ни чая, ни позднего сидения. Я встаю в 5, 6, 7 часов, пью кумыс, иду на зимовку, там живут кумысники; поговорю с ними, прихожу, пью чай со Степой; потом читаю, немного хожу по степи в одной рубашке; все пью кумыс, съедаю кусок жареной баранины, и или идем на охоту, или едем, и вечером, почти с темнотой ложимся спать».
Касаясь времени, проведенного Л. Н. Толстым в Ка-ралыке, Н. Гусев отмечал, что он там ничего не писал, но читал греческих авторов, ходил и ездил по окрестным деревням, охотился, пил кумыс, беседовал с кумысниками, играл в шашки с башкирами.
За период 1862—1883 гг. писатель десять раз посетил Оренбуржье. Если первые поездки его были вызваны необходимостью лечения кумысом, то последующие — связаны с нарастающим его интересом к жизни народа. В письме к жене он писал: «Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа». В другом письме он вновь отмечает: «Для покупки здесь имения особенно соблазняет простота и честность, наивность и ум здешнего народа».
Но, восхищаясь нравами патриархального крестьянина в заволжских степях, Л. Толстой видел здесь следы голода, нищеты и бедности. Это писатель отразил позже в своих произведениях: «Воскресение», «Много ли человеку земли нужно?», «Ильяс» и др.
В воспоминаниях С. А. Берса есть немало строк, посвященных общению великого писателя с местными жителями, кочевниками Оренбургского края. Л. Толстой и С. Берс поселились в нанятой отдельной юрте—«кочевке». По описанию последнего, юрта представляла «деревянную клетку, имеющую форму приплюснутого полушария», которая была покрыта «большим войлоком» и имела «деревянную росписную дверцу». Пол в юрте заменял ковыль. Она легко раскладывалась и перевозилась. «Летом,— писал Берс,— в степи жилище это весьма приятно». Описывая процедуру лечения кумысом, автор подчеркивал, что «надо, подобно башкирам, употреблять его, как исключительную пищу, и при этом оставить все мучное, овощное и соль, а есть только мясо». Лев Николаевич, «само собою разумеется, приноровился к этому образу жизни, и оттого кумыс принес ему желаемую пользу». На Каралыке лечились кумысом и другие приезжие лица, которые, однако «не хотели» привыкнуть «к образу жизни кочевников», и результаты у них оказались не совсем хорошие.
Берс далее отмечал, что «по приезде Толстой со всеми перезнакомился и разогнал их уныние». Так, один из отдыхающих, старик, учитель семинарии «стал прыгать с ним (Л. Н. Толстым.— К. К.) через веревку», Вскоре Толстой со своими спутниками побывал в башкирских аулах. Путники охотились на уток, останавливались в юртах, где отдыхали и пили кумыс. Однажды, будучи в гостях у башкир, Лев Николаевич «загляделся на лошадь, отделившуюся из табуна», и сказал Берсу: «Посмотри, какой прекрасный тип дойной кобылицы». И когда через час русские гости уезжали из аула, «хозяин привязал похваленную лошадь» к бричке русских гостей: в подарок Л. Н. Толстому. Гостей «пришлось отдарить за похвалу».
Л. Н. Толстой «находил много поэтичного в кочевой и беззаботной жизни башкир». Позже, уже в Ясной Поляне, заинтересовавшись их религией, Толстой прочел Коран на французском языке. Его также очень интересовала взаимная веротерпимость между простыми людьми разных народов, живших в Оренбургском крае.
В степи со своими спутниками писатель прожил шесть недель и однажды посетил ярмарку в Бузулуке. Поехали в небольших дрогах, взяв с собой «запас кумыса в небольшом турсуке». Берс писал: «Ярмарка отличалась пестротой и разнообразием племен: русские мужики, уральские казаки, башкиры и киргизы (казахи.— К. К). И в этой толпе Лев Николаевич расхаживал со свойственной ему любознательностью и со всеми заговаривал». Н. Гусев писал, что на Бузулукской ярмарке Л. Толстой «видел представителей более чем десяти различных народов и табуны лошадей уральских, сибирских и киргизских (казахских.— К. К.)». По-видимому, Толстой очень ценил лошадей киргизской (казахской) породы, и, как писал Берс, в своем имении он ездил верхом «на молодой киргизской лошади». В романе «Воскресение» Л. Толстой писал о казахской лошади: «Приведенный швейцаром гостиницы извозчик на сытой, крупной киргизке, запряженной в дребезжащую пролетку, подвез Нехлюдова».
Вовремя пребывания «на кумысе» Л. Н.Толстой «высмотрел» имение и в следующем году купил его. Через два года писатель приехал туда с семьей и пригласил на лето за плату башкира с табуном дойных маток. Старик-башкирец отличался степенностью, вежливостью в обращении и аккуратностью. Л. Н. Толстой не случайно его пригласил в имение: юрта старика внутри «отличалась чистотой и изяществом», и члены семьи писателя ходили туда не только пить кумыс, но и посидеть, побеседовать. Лев Николаевич в шутку называл юрту старого башкира «нашим салоном». Действительно, посередине ее лежал ковер, а на нем подушка. Сбоку стоял небольшой стол с двумя стульями, предназначенными для русских гостей. На решетчатой стене юрты висело «разукрашенное седло». Одна часть юрты была занавешена ярким ситцем, где скрывалась хозяйка, когда появлялись мужчины. Оттуда она «подсовывала турсучок с кумысом и деревянную посуду». Описываемая обстановка не исключает предположений, что здесь идет речь о быте кочевых казахов-кумысников.
В 1878 г. Л. Н. Толстой всей семьей опять посетил свое имение. Берс писал о его поездке в Оренбург с целью нанять жнецов и закупить скот и лошадей. В своем имении он устроил конный завод, рассчитывая путем скрещивания «башкирских маток с рысистой, верховой английской и другими породами получить новый тип хороших лошадей». Однако табун писателя «едва не был угнан» проезжими казахами. Известие об этом пришло в имение поздно вечером. Все отправились в степь. Но «вскоре узнали», что казахи «были преследуемы и прогнаны» работниками.
Летом 1878 г. Л. Н. Толстой устроил в имении «замечательное зрелище»— скачки, о чем было широко «разглашено». Берс отмечал, что «все местные и окрестные национальности — башкиры, киргизы (казахи.— К. К.), уральские казаки и русские мужики — все чрезвычайно любят скаковой спорт». Для победителей скачек подготовили призы: быка, лошадь, ружье, часы и т. п. Не забыли и о зрителях, для которых заготовлены угощения.
К назначенному дню съехалось несколько тысяч человек. Башкиры и казахи приехали со своими юртами, кумысом, котлом и даже баранами. «Дикая степь, покрытая ковылем,— писал Берс,— уставилась рядом кочевок и оживилась пестрой толпой». Почетные гости сидели на возвышенном месте, на разостланных коврах и войлоке. Их угощали кумысом. На этом празднике певцы пели песни, музыканты играли на «дудке». Состязались борцы. В скачках участвовало тридцать лошадей, на которых седоками были мальчики лет десяти, сидевшие без седел. 50 верст они проскакали за час и сорок минут. Наблюдал за часами гувернер-швейцарец. Пир в имении Л. Н. Толстого продолжался два дня и, по словам Берса, «отличался замечательной чинностью, порядком и оживлением. Все гости учтиво поблагодарили хозяина-графа и разъехались очень довольные».
Весьма важно утверждение Берса о том, что Л. Н. Толстой советовал ему «не создавать себе в чужих краях никаких требований, а применяться к местным условиям и относиться к ним с любовью и интересом». Великий гуманист именно так и относился к коренному населению края.
Его пребывание в Оренбургских степях нашло отражение в письмах самого Л. Н. Толстого, в публикациях сыновей И. Л. и С. Л. Толстых, а также П. И. Бирюкова, Н. Е. Прянишникова, Л. Большакова и др. Последний, изучая письма Льва Николаевича, пришел к выводу, что писатель в 1876 г. был не в Самаре, а в Оренбуржье, хотя Л. Н. Толстой писал А. А. Фету и другим о своем желании ехать в Самару.
Непосредственной причиной поездки в Оренбург явились хозяйственные заботы. В эти годы Л. Толстой увлекся разведением лошадей, за ними он и поехал сюда. Впоследствии И. Л, Толстой вспоминал, что из Оренбурга отец привез «чудного белого бухарского аргамака». Оренбург привлек внимание Л. Н. Толстого пестрой многоликой своей жизнью. Город, как писал Алекторов (1883), был «наполовину европейский, наполовину азиатский... Русское население его, в летнее время особенно, теряется в разношерстном сборе народов Азии —киргиз (казахов.—- К. К.), татар, башкир, хивинцев, бухарцев». Л. Н. Толстой, по утверждению исследователя Большакова (1964), живя в Оренбурге, «смотрел, расспрашивал, слушал».
Неоднократное посещение Оренбургского края, длительное проживание в нем, конечно, не могло пройти бесследно в творчестве Л. Н. Толстого. И действительно, замыслы и их воплощение в ряде произведений писателя в той или иной мере связаны с Оренбуржьем. Так, рассказ «Много ли человеку земли нужно?» (1885) написан Толстым под впечатлением знакомства с жизнью первых русских переселенцев и башкир, которое состоялось летом 1871 г. Герой рассказа крестьянин Пахом в поисках земли переселяется на новые места, где получает от сельского общества достаточно земли. Однако жадному Пахому «и на этой земле тесно показалось», и он решает купить землю у башкир, тем более, что, по словам заезжего купца, народ там «несмышленый, как бараны», и землю «можно почти даром взять». Следуя советам купца, Пахом покупает в городе для башкир подарки (чай, вино и т. д.) и с работником приезжает к ним.
Далее Л. Н. Толстой дает весьма интересную этнографическую зарисовку жизни башкир, которые «сами не пашут, хлеба не едят. А в степи скотина и лошади косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье молоко доят, и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают —кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все, веселые, все лето празднуют. Народ совсем темный и по-русски не знает, а ласковый».
Башкиры гостеприимно и дружелюбно встречают Пахома: «Свели его в кибитку хорошую, посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых, сели кругом, стали угощать чаем и кумысом. Барана зарезали и бараниной накормили». Пахом также не остался в долгу. Он одарил их подарками. Затем речь зашла о земле. Однако землей распоряжался старшина, который, получив от Пахома лучший подарок, сказал, что цена земли «тысяча рублей за день... Сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню тысяча рублей».
Думал Пахом: «Отхвачу... палестину большую». Целый день шел он, удаляясь все дальше и дальше в степь, отмечая границы «своей земли, а когда вернулся к намеченному пункту перед заходом солнца, то... умер. Работник выкопал хозяину могилу, размером три аршина».
Переселение русских крестьян было вызвано развитием капитализма в России, которое сопровождалось разорением и обнищанием народных масс. Толстой не только остро и мучительно переживал тяжкие и несправедливые их страдания, но беспрестанно думал и размышлял о социальных корнях бесправного положения народа. В этом отношении характерны строки из письма Л. Н. Толстого А. И. Герцену о манифесте царя от 19 февраля 1861 г.: «Не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим... Тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность его даже ученому крепостнику ничего не представляет, кроме обещаний».
Находясь в Германии, в апреле 1861 г. Л. Н. Толстой вновь писал Герцену, что «подобные положения» об освобождении крестьян «совершенно напрасная болтовня... Мужики положительно недовольны» реформой, потому что «все это господа делают».
Особенно потрясли великого писателя страдания народа, вызываемые периодически голодом. В мае 1865 г. он писал А. А. Фету: «Предстоящее народное бедствие голода с каждым днем мучает меня больше и больше... У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях, рады, что жарко и тень, а там этот злой чорт голод делает уж свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыта скотины и всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде — достанется».
Лето 1873 г. Л. Толстой провел в своем имении в Оренбургском крае. Страшная засуха охватила его. Стремясь ближе узнать размеры голода, возникшего вследствие неурожая, писатель объезжает окрестные деревни. Он обращается с письмом к издателям «Московских ведомостей», где пишет о страшном бедствии, охватившем народ. Его призыв был услышан, и началась организация помощи голодающим.
Увиденное и пережитое писателем отразилось в известной мере и в романе «Анна Каренина», который был завершен Толстым в период его поездок в Оренбургские степи. Роман интересен, таким образом, и в аспекте рассматриваемой проблемы. В нем получили весьма любопытное освещение некоторые важные стороны жизни коренных народов окраин. Читатели помнят, как Каренин, крупный государственный чиновник, возглавил комиссию «для исследования во всех отношениях быта инородцев», которая работала необычайно быстро и энергично и через три месяца представила отчет. «Быт инородцев был исследован в политическом, административном, экономическом, этнографическом, материальном и религиозном отношениях»,— писал Л. Н. Толстой. Тонко высмеивая работу комиссии, он отмечал: «На все вопросы были прекрасно изложены ответы и ответы, не подлежавшие сомнению, так как они не были произведением всегда подверженной ошибкам человеческой мысли, но все были произведением служебной деятельности». Бессмысленность и бесчеловечность отчета комиссии видны и из того, что «ответы все были результатами официальных данных, донесений губернаторов и архиереев, основанных на донесениях уездных начальников и благочинных, основанных, с своей стороны, на донесениях волостных правлений и приходских священников, и потому,— иронизирует писатель,— все эти ответы были несомненны».
Таким образом, решение актуальных политических, экономических и других вопросов, связанных с бытом «инородцев», в конечном счете оказывалось в руках невежественных приходских священников и полуграмотных писарей волостных правлений. Именно из донесений последних создавалось очередное «произведение служебной деятельности». Наконец, иерархическая цепь донесений получает свое «высшее» воплощение в отчете комиссии, которую возглавлял Каренин. Последний имел свое мнение в отношении быта «инородцев», подтвержденное отчетом комиссии, где «все те вопросы о том, например, почему бывают неурожаи, почему жители держатся своих верований и т. п., вопросы, которые без удобства служебной машины не разрешаются и не могут быть разрешены веками, получили ясное, несомненное решение».
Однако вокруг вопроса о быте «инородцев» разыгрывается сложная интрига, цель которой провалить соперничающую группу чиновников. При этом интересы «инородцев» отодвигаются далеко на задний план, а на авансцену выходят чиновники-карьеристы, заботящиеся о чести мундира, о своем служебном положении и т. д. В этом отношении характерна позиция Стремова, который, «чувствуя себя задетым за живое», применил неожиданную для Каренина тактику. Стремов перешел на еғо сторону «и с жаром не только защищал приведение в действие мер, предлагаемых Карениным, но и предлагал другие крайние в том же духе».
Когда меры, предложенные Карениным и усиленные Стремовым, были приняты, «обнажилась тактика» последнего. «Меры эти, доведенные до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то же время и государственные люди, и общественное мнение, и умные дамы и газеты — все обрушилось на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер и против их признанного отца, Алексея Александровича Каренина. Не только Стремов, но и другие члены комиссии выражали свое возмущение, утверждая, что ее донесение «есть вздор и только исписанная бумага». В результате всей этой шумихи «никто не мог понять, действительно ли бедствуют и погибают инородцы, или процветают».
Положение Каренина в обществе «стало весьма шатко», и он принял решение «самому ехать на место для исследования дела». Это решение было продиктовано желанием укрепить свое положение в обществе, а не стремлением помочь «инородцам».
Прибыв в Москву, Каренин принимает депутацию «инородцев», которую вызвал сам. Члены ее «не имели ни малейшего понятия о своей роли и обязанности,— писал Л. Толстой.— Они были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтобы излагать свои нужды и настоящее положение вещей, прося помощи правительства, и решительно не понимали, что некоторые заявления и требования их поддерживали враждебную партию и потому губили все дело». Между тем старый и опытный царский чиновник Каренин составляет для депутации специальную «программу, из которой они не должны были выходить». Таким образом, Каренин пытается использовать самих «инородцев» в борьбе с враждебным лагерем чиновников, нисколько не думая и не заботясь об их истинных нуждах и требованиях.
В крайне реакционных кругах высшего аристократического общества, как у Облонского на званом обеде, шли модные разговоры не только об обрусении «инородцев» (Кознышев, например, утверждал: «Для обрусения инородцев есть одно средство — выводить как можно больше детей»), но и об обрусении Польши (Каренин «доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русскою администрацией»).
«Теоретическую» основу политики обрусения одни (Кознышев) видели в «густоте населения», другие (Каренин)— во влиянии «истинного образования», «высшего развития». Из разъяснения становится ясно, что Каренин понимал под «истинным образованием». Он не отрицал нравственного влияния классических писателей, но резко осуждал преподавание естественных наук, поскольку только с последними связывал этот чиновник высшего ранга «те вредные и ложные учения, которые составляют язву нашего времени».
Каренина мало беспокоили судьбы «инородцев», и если о них он вел салонные разговоры, то, будучи сыном своей эпохи, не хотел выглядеть в глазах общества отсталым человеком. Вернувшись в Петербург, Каренин, поглощенный нелегкими заботами семейной жизни, забыл и об «инородцах», и о комиссии.
Отказался «от лестного и опасного назначения в Ташкент» и Вронский, хотя по его прежним понятиям это «было бы позорно и невозможно».
Внимательно следя за жизнью народов окраин России, Л. Н. Толстой задумал написать ряд произведений из исторического прошлого Оренбургского края. В этой связи он интересуется «Записками Оренбургского отдела РГО», книгой М. С. Бекчурина «Туркестанская область» (1872) и др.
В публикациях Оренбургского отдела Русского географического общества имелись исторические и этнографические работы. Внимание Л. Н. Толстого могла привлечь статья «Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне имеющие в Малой киргизской орде силу закона» и другие материалы, опубликованные на страницах «Записок» и сохранившиеся в личной библиотеке писателя в Ясной Поляне.
Из видных деятелей края Л. Н. Толстого заинтересовала фигура В. А. Перовского, воспоминания которого о пребывании в плену у французов были использованы им в «Войне и мире» (см. описания пребывания в плену у французов Пьера Безухова). О своем интересе к Оренбургскому краю и к личности Перовского Л. Н. Толстой писал следующее в письме к А. А. Толстой (январь, 1878 г.): «У меня давно бродит в голове план сочинения, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время — Перовского. Теперь я привез из Москвы целую кучу материалов для этого. Я сам не знаю, возможно ли описывать В. А. Перовского и, если бы и было возможно, стал ли бы я описывать его; но все, что касается его, мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо, как историческое лицо и характер, мне очень симпатично. Что бы сказали Вы и его родные? И дадите ли Вы и его родные мне бумаг, писем... хотелось бы поглубже заглянуть ему в душу».