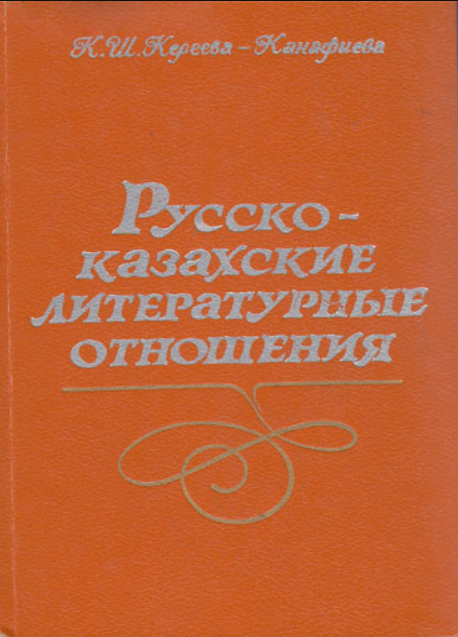Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 9
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Важно, что сатира Валиханова имела точный адрес. Так, А. Е. Врангель писал о генерал-губернаторе Г. X. Гасфорте: «Он так пуст и глуп, что много говорить о нем не буду», а о генерале Фридериксе: «Добрый, отличный человек, но глуп, как пробка». Отсюда ясно, что именно эти ограниченные люди служили мишенью ядовитых насмешек молодого Чокана.
Литературные занятия привлекали Валиханова и в относительно более зрелые годы (как известно, он прожил всего 30 лет). Так, прекрасно владея тюркскими наречиями, Чокан свободно переводил на русский язык отрывки из поэмы «Манас» («Смерть Кукотай-хана и его поминки»). Об этом переводе с восторгом писал Н. И. Веселовский. В 1902 г. на заседании Русского археологического общества он сделал доклад на тему «О поэме «Манас» в записи и переводе Ч. Ч. Валиханова». Русский ученый с восхищением говорил, что Валиханов «превосходно усвоил русский язык и до какой степени силы и образности умел передавать по-русски сжатую киргизскую речь». В научных трудах Чокана, дневниковых записях и в особенности его небольшом эпистолярном наследии чувствуется особый, валихановский стиль, что также служит показателем его большого литературного дарования.
Литературоведческая деятельность Валиханова, связанная с тщательным изучением образцов произведений устного творчества тюркоязычных народов, заслуживает особого внимания. Помимо записи киргизского эпоса «Манас», Чокан записал также казахскую поэтическую легенду «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», впоследствии опубликованную в «Турецкой хрестоматии» И. Н. Березина (ч. 3, Казань, 1876, стр. 70—162), затем эпос об «Идиге», который был им же переведен на русский язык и опубликован в сочинениях казахского ученого, вышедших в 1904 г. под редакцией Н. И. Веселовского.
Литературное дарование Чокана нашло отражение в его научных трудах и дневниках («О состоянии Алты-шара, или шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухарин)», «Очерки Джунгарии», «Записки о киргизах», «Аблай», «Киргизское родословие», «Записки о судебной реформе», «Следы шаманства у киргизов», «О мусульманстве в степи» и др.), в которых читатель обращает внимание на остроту и занимательность изложения, сжатость и образность слога автора, едкий сарказм и тонкий юмор. Именно эти стороны таланта Валиханова позволили Г. Н. Потанину заявить, что «если б Чокан имел в киргизском (казахском.— К. К.) народе читающую среду, он мог бы стать гением своего народа и положить начало литературному возрождению своих единоплеменников».
В 1856 г. Валиханов, находясь в Кульдже, изучает китайский язык и отмечает, что он «состоит из односложных звуков». К сожалению, составленный им словарь китайских, монгольских и тюркских слов остался незавершенным. Для ориенталиста Валиханова интересно было отметить наличие смешанного языка у местного населения. По его мнению, этот язык состоял из небольшого числа глаголов, которым придавали множество значений, и нескольких имен существительных.
Любопытны меткие характеристики, данные Вали-хановым жителям различных районов Восточного Туркестана. Он считал, что «аксуйцы известны за самых добросердечных людей», «но имеют общую всем турке-станцам страсть к тяжбам. Яркендцы от природы робки... любят зрелищные увеселения и пиршества. Женщины хорошо поют, пляшут и знают разные фиглярства... Беки наживаются населением и высасывают все. Хотанцы красивы, добросердечны, нет ни лености, ни притворства. Прилежат земледелию и ткацкому ремеслу».
Нельзя без восхищения читать полные сарказма строки Валиханова, посвященные характеристике цинских чиновников: «В Китае,— писал он,— вместилищем разума принимается желудок: если у вас замечательной величины брюхо, то, очевидно, что у вас замечательный ум». Один из китайских чиновников «сильно тщеславился своим «умом», и он «пристально всматривался в... желудки» русских путешественников, «чтобы узнать степень... мыслительной силы» их. «Увидев поджарые... субъекты, он презрительно отвернулся и особенно гордо заковылял, из чего было ясно,— иронизировал Чокан,— что о нас, русских, составил мнение самое невыгодное относительно умственной силы.
Вместе с тем автор с резким возмущением писал о социальном зле в провинции. Так, наместник главы Западной провинции Китая, по мнению Валиханова, был «совершенный трехбунчужный паша», потому что «он пьет, ест за счет народа. Мясники доставляют каждый день мясо, портные шьют платье, каменщики поправляют дом. Поборы и злоупотребления превосходят всякие границы». Вместе с тем Чокан нашел много теплых слов, чтобы описать «веселость... безыскусственных детей природы», какими он считал китайских детей.
Валиханова всегда привлекала деятельность журналиста. Его статьи, очерки публиковались не только на страницах изданий Географического общества, но и в «Русском инвалиде» (статьи «О Баян-Аульском округе», 1857, № 195; «Восстание дунган в Западном крае Китайской империи», 1865, № 51). «Русский инвалид», где редактором был друг Ч. Ч. Валиханова Д. И. Романовский, опубликовал отзывы английской печати на труды казахского ученого, а также сообщение о выходе переводной книги Д. и Р. Митчелл «Русские в Средней Азии по исследованиям капитана Валиханова, М. Венюкова и других путешественников» (Лондон, 1865).
Несомненный интерес представляет факт публикации в герценовском «Колоколе» (1862, № 131, стр, 1089— 1092) статьи «Отрывок из письма к издателю», где, по утверждению Г. Н. Потанина, использованы материалы Валиханова.
Первое знакомство Чокана с «Современником» состоялось еще в годы его учебы в кадетском корпусе. С тех пор и до самой смерти он сохранил верность этому органу печати революционеров-демократов. «Современник» Н. Г. Чернышевского и Н. А. Некрасова весьма оперативно откликался на события в казахских степях, помещая статьи Е. П. Ковалевского, К. Губарева и др. Особый интерес привлекает статья Губарева, в которой, вопреки официальным взглядам царской администрации, автор подчеркивает, что казахи «очень охотно учатся грамоте и вовсе не имеют предубеждения против нее» и далее: казахи «вообще... очень восприимчивы к цивилизации». В связи с этим автор характеризовал Ч. Ч. Валиханова как личность способную, развитую и дельную.
Будучи тяжело больным и находясь в степи, Валиханов просил петербургских друзей подписать его на «Современник», живо и остро переживал «вавилонское пленение»— закрытие журнала на долгие восемь месяцев и с огорчением спрашивал, что будет с журналом.
Поддерживая позицию «Современника», Валиханов отрицательно относился к реакционным и консервативным изданиям. Так, несмотря на глубокую личную дружбу с Ф. М. Достоевским, он критически оценивал его журналы. В письме Майкову Чокан спрашивал: «Что делают Достоевские?.. Как их журнал?.. Говоря между нами, я что-то плохо понимаю их почв, народность, то славянофильством пахнет, то западничеством крайним». В этих строках виден критический подход Валиханова к политической позиции журналов «Время» (1861— 1863) и «Эпоха» (1864), издаваемых великим писателем. Валиханов не только не поддерживал их направления, он дал об этом понять и в своем письме Ф. М. Достоевскому, прося его самого подписать на «Современник». Это письмо свидетельствует о том, что Чокан четко разбирался в литературно-общественных течениях России 60-х годов XIX в. и открыто, недвусмысленно высказывал свою приверженность к позиции русских революционеров-демократов, к их журналу «Современник».
Об особом пристрастии Валиханова к журналистской деятельности можно судить и по его просьбе к Майкову: он хотел бы быть корреспондентом газеты «Санкт-Петербургские ведомости», чтобы писать «о делах среднеазиатских и киргизских степей», желал бы также печатать казахские сказки, «сходные с русскими» в «Отечественных записках». В этом журнале он предполагал напечатать свои исследования о шаманстве, а также песни «о золотоордынских героях, бросающие новый взгляд на историю этой орды и объясняющие причины падения орды».
Этот интерес Чокана сформировался во время его петербургской жизни под воздействием известных русских писателей А. Н. Майкова (1821—1897), Я. П. Полонского (1819—1898), Н. С. и В. С. Курочкиных30 и др.
Но особенно благотворное влияние на Валиханова оказала его творческая дружба с гениальным русским писателем Ф. М. Достоевским, с которым он познакомился в 1854 г. в Омске. Весной того же года писатель был переведен в Семипалатинск.
«Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с Вами в Семипалатинске,— писал Валиханов 5 декабря 1856 г.,— что теперь только о том и думаю, как еще побывать у Вас. Я не мастер писать о чувствах и расположении, но думаю, что это ни к чему. Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю».
Ответное письмо Достоевским было написано 14 декабря. «Письмо Ваше, добрейший друг мой, передал мне Александр Николаевич,— писал он.— Вы пишете мне, что меня любите. А я Вам объявляю без церемоний, что в Вас влюбился. Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам, и бог знает, как это сделалось. Тут бы можно многое сказать в объяснение, но чего Вас хвалить! А Вы верно и без доказательства верите моей искренности, дорогой мой Валихан, да если бы на эту тему написать 10 книг,— ничего не напишешь, чувство и влечение — дело необъяснимое. Когда мы простились с Вами из возка, нам было грустно целый день. Мы всю дорогу вспоминали р Вас и взапуски хвалили.
Чудо как хорошо было, если бы Вам можно было с нами поехать. Вы бы произвели большой эффект в Барнауле. В Кузнецке (где я был один) (N. В. Это секрет) я много говорил о Вас одной даме, женщине умной, милой, с душой и сердцем, которая лучший друг мой. Я говорил о Вас так много, что она полюбила Вас никогда и не видя, с моих слов, объясняя мне, что я изобразил Вас самыми яркими красками. Может быть, эту превосходную женщину Вы когда-нибудь увидите и будете тоже в числе ее друзей, чего Вам желаю. Поэтому и пишу Вам об этом. Я почти не был в Барнауле. Впрочем был на бале и успел познакомиться почти со всеми. Я больше жил в Кузнецке (5 дней). Потом в Змееве и в Локте. Демчинский был в своем обыкновенном юморе во все время. Семенов превосходный человек. Я его разглядел еще ближе. Много бы можно Вам рассказать, чего в письме не напишешь, но когда-нибудь кое-что узнаете.
И вот теперь, когда в душе моей вдруг неожиданно (и ждал и не ждал) накопилось столько горя, забот и страху за то, что мне дороже всего на свете, теперь, когда я совершенно один (а действовать надо)—теперь я раскаиваюсь, что не открыл Вам главнейших забот моих и целей моих, и всего того, что уже слишком два года томит мое сердце до смерти, я был бы счастливым. Дорогой мой друг, милый Чокан Чингисович, я пишу Вам загадки. Не старайтесь их разгадывать, но пожелайте мне успеха. Может быть, скоро услышите обо всем от меня же. Приезжайте сюда возможно скорее к нам, а уже в апреле непременно. Не переменяйте своего намерения. Так хотелось бы Вас увидеть, да Вы верно не соскучитесь.
Вы пишете, что Вам в Омске скучно,— еще бы! Вы спрашиваете совета: как поступить Вам с Вашей службой и вообще с обстоятельствами. По-моему вот что: не бросайте заниматься. У Вас есть много материалов: напишите статью о степи. Ее напечатают (помните, мы об этом говорили). Всего лучше, если бы Вам удалось написать нечто вроде своих записок о степном быте, о Вашей жизни там и т. д. Это была бы новость, которая заинтересовала бы всех. Так было бы ново, а Вы, конечно, знали бы что писать (например, вроде Джона Теннера в переводе Пушкина, если помните). На Вас обратили бы внимание и в Омске и в Петербурге, материалами, которые у Вас есть, Вы бы заинтересовали Географическое общество. Одним словом, и в Омске на Вас смотрели бы иначе. Тогда бы Вы могли заинтересовать даже родных Ваших возможностью новой дороги для Вас.
Если хотите будущее лето пробыть в степи, то ждать еще можно долго. Но с 1-го сентября будущего года Вы бы могли выпроситься в годовой отпуск в Россию. Год пробыв там, Вы бы знали, что делать. На год у Вас достало бы средств. Поверьте, что их нужно не так много. Главное не с некием расчетом жить и живой взгляд иметь на это дело. Все относительно и условно. В этот год Вы бы могли решиться на дальнейший шаг в Вашей жизни. Вы бы сами, выяснив себе результат, т. е. решили бы, что делать далее.
Воротясь в Сибирь, Вы бы могли представить такие выводы или такие соображения (мало ли что можно изобразить и представить) родным своим, что они, пожалуй, отпустили бы Вас за границу, т. е. года на два в путешествие по Европе. Лет через 8 Вы бы могли так устроить судьбу свою, что были бы необыкновенно полезны своей родине. Например, не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, кто бы растолковал в России, что такое степь, что значит Ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине просвещенным ходатаем за нее у русских. Вспомните, что Вы первый киргиз, образованный по-европейски вполне. Судьба же Вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав Вам и душу и сердце. Нельзя, нельзя отставать: настаивайте, старайтесь и даже хитрите, если можно. А ведь возможно, будьте уверены — не смейтесь над моими утопическими соображениями и гаданиями о судьбе Вашей, мой дорогой Валихан.
Я так Вас люблю, что мечтаю о Вас и о судьбе Вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял судьбу Вашу. Но среди мечтаний была одна действительность: это то, что Вы первый из Вашего племени, достигший образования европейского. Уже один этот случай поразителен, и сознание о нем невольно налагает на Вас и обязанности. Трудно решать: как сделать Вам первый шаг. Но вот еще один совет (вообще): менее забывайтесь и мечтайте, а больше делайте. Хотя с чего-нибудь да начните, хотя что-нибудь да сделайте для разрешения натуры своей, что-нибудь все-таки лучше, чем ничего. Дай Вам бог счастья.
Прощайте, дорогой мой. Позвольте Вас обнять и поцеловать 10 раз. Помните меня и пишите чаще. Цуриков мне нравится, он прям, но я еще мало знаю его. Съедетесь ли Вы с Семеновым и будете ли вместе в Семипалатинске (приписка на полях)? Тогда нас будет большая компания. Тогда, может быть, много переменится и в моей судьбе! Дал бы бог! Вам кланяется Демчинский. Пишу Вам у него на квартире, за тем столом, на котором мы обыкновенно завтракаем или вечером пьем чай, в ожидании обещанных строк. Напротив меня сидит Цуриков и тоже Вам пишет. Демчинский же спит и храпит. Теперь десять часов вечера. Я не понимаю, отчего очень устал, хотелось бы Вам кое-что написать о Семипалатинске: есть вещи очень смешные. Да не упишешь и десятой доли, если писать как следует. Прощайте же, добрый мой друг. Пишите мне чаще. А я всегда буду Вам отвечать, может быть рискну в другой раз написать и о своих делах. Поклонитесь от меня Д-ву и пожелайте ему от меня всего лучшего. Уверьте его, что я люблю его и искренне предан ему. С. Вам кланяется, рассказывала, как Вы и она живали в Омске. Она Вас помнит и очень Вами интересуется».
Письмо отличается ярко выраженной публицистической направленностью. В нем — и это особенно важно подчеркнуть — определена высокая цель общественного призвания Валиханова как просветителя родного народа, исключительно верно оценены незаурядные способности Чокана, дана глубокая характеристика его образа.
По поводу этого единственного дошедшего до нас письма Достоевского к Валиханову Н. Павлова писала: «Письмо Ф. М. Достоевского получено мною в августе 1908 г, от султана Махмуда Валиханова, проживающего в Акмолинской области. Адресовано письмо к брату Махмуда Валиханова — Чокану Валиханову, с которым Ф. М. Достоевский познакомился будучи в Омске. До самой смерти Чокана Валиханова... Ф. М. Достоевский оказывал ему самое дружеское расположение, живо интересуясь попытками Валиханова написать историю киргизского народа». К сожалению, судьба других писем Достоевского к Валиханову неизвестна. Между тем Чокан неоднократно писал Федору Михайловичу о своей жизни, просил совета и т. д. Так, в письме от 18 июля 1859 г. из Петропавловска он сообщал писателю о намерении «ехать прямо к себе в орду», то есть в степь, так как «расстроен нравственно и телесно» и много писать не может. «Здоровье мое не хуже и не лучше, покашливаю, как и прежде, хотя пью кумыс», поэтому быть в Петербурге не только в октябре, но и декабре 1861 г. Валиханов не смог. По совету сибирских докторов он решил зиму провести в степи, так как пришел к грустному выводу, что с его «здоровьем в Петербурге жить постоянно нельзя».
Валиханов писал своему великому другу о желании «получить место консула в Кашгаре». Если бы это не удалось, то он намеревался уйти в отставку и служить в степи на выборных должностях с тем, чтобы приносить посильную помощь своему народу. Как видно из этих строк, Чокан наивно верил в просвещенного, «честного чиновника», но уже в следующем письме от 15 октября 1862 г. он с горечью отметил свое разочарование в желании стать «честным чиновником», поскольку окружающая среда всячески препятствовала ему занять выборную должность старшего султана. Попытка посвятить себя на благо соотечественников, «защищать их от чиновников и деспотизма богатых» казахов не увенчалась успехом. Врагов у Валиханова оказалось много: и чиновничество, и богатые «ордынцы». Чтобы очернить его в глазах народа, они «пускали в ход и то», что Валиханов не верит в бога и с Магометом состоит чуть ли не в личной вражде. «Подобные вещи», естественно, не могли остаться без последствий. И хотя Валиханов на выборах получил большинство голосов выборщиков, однако администрация Западно-Сибирского генерал-губернаторства попросту игнорировала результаты выборов и не утвердила его старшим султаном Атбасарского округа, боясь, что «ладить» с просвещенным и гуманным правителем будет тяжело. И Валиханов с полным основанием писал Достоевскому, что «генералы не любят (его.— К. К.) потому, что мало этой восточной подобострастности».
Однако не только царские чиновники «не любили» Валиханова. Между ним и близкими родственниками тоже стояло что-то «неодолимое», и попытки молодого ученого «сблизиться» с «милыми земляками» всегда заканчивались неудачно. Здесь сказывалось тщеславие представителей старейшего аристократического рода, имевших «слишком высокое мнение о себе».
В этом плане особого внимания заслуживает письмо Валиханова к А. Н. Майкову, в котором содержится ряд важных признаний казахского ученого. Объясняя корни расхождения своих взглядов с мнением ближайших родственников, людей, безусловно, умных и опытных, Чокан ссылается на трудности, которые он испытывает, пытаясь «изгнать» неверные заблуждения у людей, близко его окружавших. Положение осложнялось и тем, что казахи еще держались «шаманства, примешивая к нему гомеопатическую дозу ислама». Отмечая, что у них «много песен... бездна поговорок и афоризмов», Валиханов писал, что его оппоненты в них-то «находят готовый аргумент старины и думают, что правы».
Казахские старейшины не одобряли деятельность Валиханова по собиранию произведений устного творчества народа, а его гуманизм считали слабодушием («сказки собирает,— говорят киргизские старейшины про меня,— писал ученый,— слабодушествует»). Но Чокан не сдавал своих позиций, постоянно протестуя. Так, история, связанная с преднамеренным игнорированием результатов выборов его, получила широкую огласку в Петербурге и вызвала возмущение передовых русских деятелей и друзей Валиханова.
Казахстанский период жизни Достоевского, период пребывания в течение пяти лет в ссылке в Семипалатинске, имел весьма важное значение в творческой биографии писателя. Отвергнутый обществом и даже родными, пробыв в заточении в остроге—«мертвом доме», Достоевский в Семипалатинске впервые за прошедшие трудные годы почувствовал тепло человеческих отношений и через всю свою жизнь пронес образы близких людей тех лет, среди которых одним из первых был Ч. Ч. Валиханов.
О своей любви к Чокану Достоевский писал и говорил своим близким и друзьям. Так в письмах к, А. Е. Врангелю и А. И. Гейбовичу писатель называл его «премилым и презамечательным человеком», подчеркивая, что очень его любит и очень им интересуется.
В воспоминаниях А. Г. Достоевской, супруги писателя, есть эпизод, связанный с рассказом Федора Михайловича (ноябрь 1866) о своем «вещем» сне. Показывая большой палисандровый ящик, Достоевский сказал, что это подарок его «сибирского друга Чокана Валиханова» и что он им очень дорожит. Далее он говорил; «В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне воспоминаниями. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня заинтересовало; я стал медленно перекладывать бумаги и между ними нашел крошечный бриллиантик, но очень яркий и сверкающий».
Глубокая и трогательная дружба о Валихановым оставила яркий след и в творческой позиции великого писателя. Продолжением мыслей о будущем казаха Валиханова, а через него и казахского народа, содержавшихся в письме Достоевского, следует считать его зрелые суждения, зафиксированные в «Дневнике писателя». И хотя между письмом к Валиханову и записью в «Дневнике» пролегли годы, но мысли автора в них созвучны; «Мы первые объявили миру, что не через подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единстве с ними».
«Нам бесконечно дорого сознавать,— писал М. О. Ауэзов,— что великий русский писатель Ф. М. Достоевский говорил о своих думах и чаяниях с лучшими представителями казахского народа, что он мыслил будущее этого народа связанным с русским народом, с его борьбой за светлое будущее». Много важных и интересных событий связано у Достоевского с Семипалатинском. Отсюда он пишет брату Михаилу: «Покамест я занимаюсь службой, хожу на учение и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошее, и в эти два месяца много поправилось, вот что значит выйти из тесноты, духоты и такой неволи. Климат здесь довольно здоров. Здесь уже начало киргизской (казахской.— К. К.) степи». Семипалатинск, по его мнению, «город довольно большой и людный» и «азиатов множество»... «Когда-нибудь я напишу тебе о Семипала тинске подробнее. Это стоит того». Действительно, город к середине XIX в. постепенно приобретал значение крупного торгового центра, куда стекались купцы и караваны из Сибири, Средней Азии, Восточного Туркестана и казахских степей.
Самое главное, как отмечалось выше, Семипалатинск сыграл определенную роль в духовном, творческом возрождении великого писателя. Уже в этом письме он, будучи солдатом 7-го линейного сибирского батальона, обращается к брату с просьбой прислать ему книги «европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности, всех древних (Геродота, Фукидида, Тацита, Флавия, Плиния, Плутарха и т. д. Они все переведены по-французски)». Наконец, Достоевский хочет иметь «Коран и немецкий лексикон». Кроме этих книг, ему нужны физика и физиология («хоть на французском, если на русском дорого»). Письмо заканчивалось криком истосковавшейся по литературе души: «Пойми, как нужна мне эта духовная пища!»
Благодаря чтению книг, общению с интересными людьми, как Чокан Валиханов и другие, Достоевский достаточно быстро смог вновь заняться литературным трудом. Именно Семипалатинск стал для него местом духовного возрождения после суровых лет Омской каторги. Здесь он после долгого вынужденного перерыва создает первые свои повести: «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели». Здесь же рождаются замыслы некоторых романов, начаты главы «Записок из Мертвого дома», их писатель читал А. Е. Врангелю и известному русскому путешественнику и географу П. П. Семенову-Тян-Шанскому. Восхищенный ученый утверждал: «Можно сказать, что пребывание в «Мертвом доме» сделало из талантливого Достоевского великого писателя-психолога».
В мемуарах П. П. Семенова-Тян-Шанского сохранились описания встреч ученого в 1856—1857 гг. в Омске, Семипалатинске, Барнауле с Ф. М. Достоевским, только что вышедшим из «мертвого дома», и молодым офицером Ч. Ч. Валихановым. Именно эти личности произвели на ученого наибольшее впечатление.
В годы пребывания в Семипалатинске Достоевскому открывается возможность установления связи не только с родными (братьями, сестрой), но и с друзьями. Он налаживает переписку с бывшим петрашевцем поэтом А. Н. Плещеевым, находившимся в ссылке в Оренбурге. Дружеские отношения между ними сохранились и в последующие годы. Так, в 1875 г. Достоевский обратился к поэту с письмом, уведомляя, что он высылает три главы нового романа и обращается к нему «как к старому другу».
В большинстве произведений Ф. М. Достоевского, начиная с «Дядюшкина сна» и кончая «Дневником писателя» (1873 и 1876—1877), имеются упоминания о казахской степи и ее обитателях. Если, находясь в Омском остроге, в «мертвом доме», узник видел казахскую степь, казахские юрты лишь издали, то за пятилетнюю жизнь в Семипалатинске писатель близко столкнулся с казахами, их жизнью, обычаями и нерешенными проблемами, более глубокому пониманию которых способствовал, безусловно, его друг Ч. Ч. Валиханов.