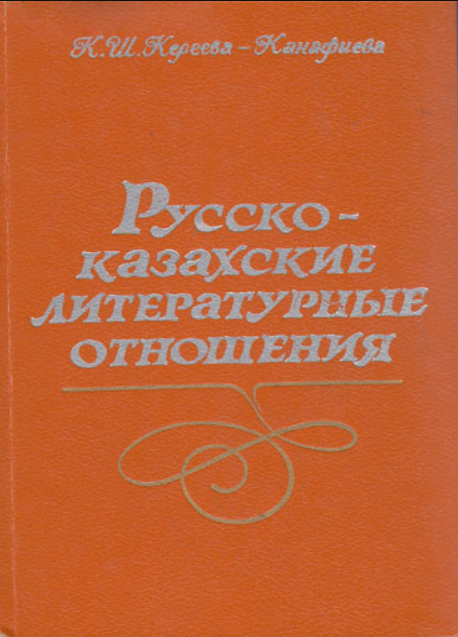Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 11
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Переводчики обычно получали образование в России. Но в жизни они становились хитрыми и пронырливыми, чтобы покорностью и предупредительностью, почти пресмыкательством перед местной администрацией получать выгоды от своей службы. Вместе с тем эти же толмачи становились крайн» высокомерными и нагло надменными с зависящими от них кочевниками. Некоторые из них при казахских султанах исполняли обязанности домашнего секретаря, письмоводителя, адъютанта и ближайшего наперсника интимных дел своего патрона. Пользуясь этим, толмачи оказывали большое влияние на султанов, хотя официально и оставались в тени.
Бурченко, знавший казахский язык, был свидетелем одного неправильного перевода толмачом жалобы казахов генералу, который обещал прислать своего человека; чтобы выяснить истину. И лица последних просветлели, потому что они по наивности поверили словам генерала,
Роман «Погоня за наживой» является важным документом, правдиво свидетельствующим о первых шагах русского капитализма в Средней Азии и Казахстане. В нем нет экзотических сцен, рассчитанных на вкус известной части читающей публики. Несмотря на отдельные художественные недочеты в обрисовке образов, описании событий, роман представляет собой интересное произведение, лучшие страницы которого посвящены развитию русско-казахских отношений.
Анализируя романы Каразина «На далеких окраинах» и «Погоня за наживой», критик Н. Никитин писал: «Проникнувшись важностью своей исторической миссии, мы, не думая долго, «потекли» в Ташкент в хвост «победоносного воинства», - потекли и потащили за собой длинный хвост самой разнокалиберной, цыганской толпы, таких цивилизаторов, которые ничем не лучше завоеванных нами дикарей». Он делил этих господ-цивилизаторов, двинувшихся «на далекие окраины», на две категории. Одни из них дельцы типа Хмурова, Перловича, Лопатина и К° ехали в Ташкент с целью оживить торговлю, нажить богатство, насадить и развить промышленность и т. д. К другой категории относились разные темные и безродные пройдохи, искатели приключений, чиновники, оставленные за штатом, шулера и т. п. «Цивилизаторы по части нравов,— с возмущением писал критик,— основательно сообразили, что на ум народа дикого, еще не вышедшего из ребяческого состояния, лучше действовать, примером... С утра до ночи — пьянство и карты, карты и ПЬЯНСТВО».
Никитин писал о возмутительном поведении «нескольких веселых молодых людей», нагрянувших в мирный каахский аул, где они вели себя крайне разнузданно, пока у населения «не иссякло терпение и их не выпроводили силой». Критик подробно анализирует взаимоотношения двух авантюристов и мошенников - Перловича и Батогова. Но еще более крупным хищником оказался Лопатин, купивший красавицу Адель у ее маменьки. Он же способствовал разоблачению Перловича: крупная акула проглотила щуку. Таковы нравы людей, выведенных в романах Н. Н. Каразина.
Из многочисленных произведений писателя, посвященных казахам, самым замечательным в идейно-художественном отношении является роман «С Севера на Юг» (1875). Если «герои» предыдущих романов —это всякого рода прожигатели жизни, коммерсанты и офицеры, лишь эпизодически связанные с местным населением, то в романе «С Севера на Юг» впервые широко выведены образы простых людей, представителей русского и казахского народов.
Крестьяне-переселенцы едут в казахские степи в поисках счастья, которое представляется им в виде обширных нив и тучных хлебов. Каразин не идеализирует их, не любуется их забитостью и невежеством. В них он отмечает настоящие человеческие чувства, высокие нравственные качества. С искренней симпатией автор рисует и образы казахов, неоднократно подчеркивая их скромность, высокую честность, добросовестность.
Самые сильные места романа — это те, в которых показан процесс возникновения и развития добрососедских отношений между русскими переселенцами и казахскими крестьянами (шаруа). Сказочное представление о землях казахов имели поначалу переселенцы. Как завороженные, слушали они 107-летнего старца Дениса, который рассказывал, что «река Сыр (Сырдарья.— К. К.) течет молоком в кисельных берегах... А когда переселенцы добрались все же до заветной цели, то земля оказалась твердой, как камень». И все-таки русские оседают на этих землях. На первых порах они живут даже в казахских юртах. Так постепенно налаживается их жизнь. И конечно, не без участия казахов. Местный старожил и интеллигентный человек Александр Иванович Габин способствует налаживанию дружеских отношений переселенцев и шаруа. С большой похвалой отзывается Габин о казахах: «Здешний человек, он тебе первым другом и помощником готов сделаться; он же тебе и первый враг будет, коли ты человеком нечестным себя покажешь. Видел на своем деле, что значит у них к человеку доверие». И далее обращает внимание русских собеседников на то, что мы больше казаха «знаем, лучше его дело, понимаем, мы ему должны показать пример, почему оседлая жизнь лучше ихнего бродяжничества». По твердому мнению Габина (и автора!), казах «не глуп, он сам поймет, где лучше, его за шею веревкою тянуть со степи на поле незачем» (216). Разумеется, за подобные идеи местное начальство не жаловало его. Как пишет Каразин, он «всем в Казалинске поперек горла стоял» (339).
Габин приветствует инициативу переселенца Никона, призывающего крестьян к соединению всех в артель, чтобы совместно обрабатывать и поливать землю, расположенную вверх по течению реки, при этом они обращаются за помощью и к казахам. Работа последних по подъему воды оказалась крайне непроизводительной. Тогда Никон предложил сделку: он соорудит казахам подъемник для воды, а они помогут за это расчистить арыки. Однако казахи, наученные горьким опытом, согласились не сразу. И только старик-казах разрешил переговоры, сказав, что никакой бумаги, ничего не нужно вообще, кроме поручительства Габина. На следующий день казахи и русские начали трудиться сообща.
Когда налетела банда, они, объединив усилия, устояли против нее, а позже совместно боролись против саранчи, спасая урожай.
В этих эпизодах особого внимания заслуживает концепция автора о роли совместного труда, совместной обработки земли в возникновении, укреплении и развитии русско-казахских отношений. Не идеализируя этот вопрос, показывая объективные и субъективные трудности, Каразин художественно верно показал ту почву, на которой возникла и выросла дружба между русскими и казахами.
В романе немаловажное место занимает любовь Степана и джигита Салтыка к русской девушке Марине — человеку цельной натуры, трудолюбивой, правдивой и жизнерадостной. Салтык посылает в русский поселок за нее богатый калым (выкуп). Когда неоднократно калым был отвергнут, он с помощью коммерсанта решает силой увезти Марину. Но здесь возникает цепь сложных событий, в результате которых Никон попадает на каторгу, Степан —в плен, а Салтык, не встречая больше препятствий, женится на Марине.
В литературе имеется версия о существовании реального прообраза героини романа. В своих воспоминаниях купец Абросимов, ездивший через казахские степи в Хиву, рассказал о том, как в степи он встретил русскую женщину, которая в шестилетнем возрасте была похищена из Краснохолминской станицы Оренбургской губернии. В 15 лет пленницу выдали замуж за казаха, с которым она прожила десять лет и имела детей. Когда купец стал звать ее на родину, она отказалась, не решаясь расстаться с детьми, прибавив при этом, что и язык свой забыла. Абросимов нашел ее случайно, услышав русскую песню около степного колодца.
В романе созданы привлекательные образы Никона и его последователя Степана, который стоит за совместную обработку земли, говоря: «А сообща — первый сорт дело... А вот как сообща с Никоном, так оно и можно жить».
Каразин не скрывает симпатии к.казахам. «Народ сговорчивый,— пишет автор,— сами взялись, уже не в счет своей работы, своими лошадьми у чигиря работать ежедневно», чтобы помогать русским переселенцам (215). Любимый автором Никон утверждает, что казах «перенимает хорошее скоро». Он восхищен, что казахи «ловко к русской косе приспособились» (249).
Писатель резко отрицательно относится к представителям царской администрации на местах, которые вместо осуществления законности приносили лишь вред общему делу. Чиновники грели руки на выборах, дележе пахотных и сенокосных угодий, внося во все это суматоху и неразбериху, которые нередко заканчивались дракой, стычками..
Н. Н. Каразин и в этом романе показал первых капиталистов, акул-купцов, грабивших переселенцев и казахов и хищнически уничтожавших естественные богатства—рыбные запасы Урала. Рисуя города Иргиз и Казалинск, автор обращает внимание не только на их «крайне неприглядный» вид, но и на отсутствие школ, больниц и вместе с тем наличие церквей.
В целом роман «С Севера на Юг» наиболее правдиво и объективно по сравнению с другими произведениями писателя освещает вопросы становления русско-казахских отношений.
В романе Каразина «Двуногий волк» события развертываются на фоне усилившегося противодействия некоторых реакционных среднеазиатских ханств продвижению русских войск в Туркестан. Однако Зеравшанский поход 1868 г. (битва за Самарканд и под Зарабулаком) решил участь Бухарского ханства. Спустя четыре года после этих событий в степи начали «ходить тревожные, предостерегательные слухи».
Но к этому времени эмир Бухары еще не мог оправиться после ударов русских войск, а хивинский хан проявлял «уклончивость и нерешительность». Поэтому «во всех свободных кочевых аулах, державшихся более или менее стороны Хивы, только и думали, что скоро придется опять браться за оружие и продолжать борьбу, бог весть когда начавшуюся, бог весть когда кончающуюся». Но кочевники были уверены, что победоносное движение русских в 1868 г. не пройдет «бесследно», отсюда и умышленная нерешительность хивинского хана. Между тем положение Хивы было «самое странное», даже «комическое», подчеркивается в романе. Шах-Назар так обрисовал положение в Хивинском дворце: «У хана Сеид-Магомет-Рахима — два уха и один мозг, две руки и одно тело. В одно ухо говорят ему одно, в другое — другое; за одну руку тащат туркмены в поле, за другую — узбеки дома удерживают.
Что было делать хану? Или пополам разорваться, или на одну какую-нибудь сторону склониться». Между тем именно хивинский хан Сеид-Магомет-Рахим толкал правителя Бухары Музафара, а также туркменские и казахские племена на антирусские выступления. Многочисленные эмиссары Хивы, рассыпавшиеся по степи, стремились привлечь народ на свою сторону. Как характеризует Каразин, это были ловкие ищейки, которые имели «длинные носы и гибкие языки, смелость тигра, жадность волка, хитрость лисицы и прыткость зайца». Они пробирались через пустыни между Аральским и Каспийским морями, доходили даже до Эмбы и «волновали» казахов, подстрекая их «к поголовному восстанию». При этом обещали кочевникам самую деятельную поддержку и покровительство со стороны хивинского хана. Однако казахи, уже несколько десятилетий находившиеся в подданстве -России и пользовавшиеся ее покровительством, лишь «с большим любопытством и вниманием» слушали эмиссаров Хивы. «Старики подсмеивались и недоверчиво покачивали головами», а молодежь, видя недоверие старших, также воздерживалась от решительного шага. Поэтому эмиссары так и не достигли желанных результатов в казахских степях.
Тем не менее вокруг хивинских «ищеек» стали группироваться люди, склонные к грабежам и набегам. Как раз в это время в степи «загремело» имя Садыка, известного разбоями. К нему «потянулись со всех концов бесшабашные бездомники». Весь награбленный товар, угнанный скот, пленные люди — все стекалось в Хиву и на тамошних рынках находило себе покупателей.
Кровожадный авантюрист и грабитель Садык назван в романе «муллой» и «известным агитатором кочевников». Внешне он был одет как самый «простой» казах; в таком же халате верблюжьем, в такой же войлочной шапке, в красных штанах, вышитых цветным шелком, потертых и засаленных... «Он прилег на ковре, щурясь, поглядывал вокруг своими узко прорезанными, настоящими киргизскими глазами и с хрипением пропускал сквозь зубы струю кальянного дыма» (143).
Внешние портретные данные и внутренний мир Садыка, его миропонимание наиболее полно раскрыты в следующих описаниях автора. «Садык, казалось, совершенно равнодушно относится к предмету разговора; только скулы его, сильно выдававшиеся, слегка вздрагивали и на узких губах показывалась по временам не то насмешка, не то гримаса от боли (старая рана его обычно открывалась летом)».
Садык относился к числу «непреклонных сторонников сопротивления русским» (144). Слушателям он откровенно признавался: «Мне нет расчета попасть в русские когти... Сами мое дело знаете. Волк не пойдет к пастухам, когда не его, а их сила». И далее: «Вам хорошо: помиритесь вы с русскими, вас не тронут, земель ваших, садов и сакель не отберут, нищими не сделают, будете по-прежнему жить и привольно и покойно; разве только силы да власти прежней не будет... Вам хорошо... А вы в мою кожу влезьте... Враг я их заклятый, давний. Мне в руки к ним попасться — живым не быть... Моего добра мне крохи не оставят; мне мир ваш не на руку: все равно пропадать приходится. Когда вся сила выйдет, жив буду, уйду в Мерв, к текинцам, и оттуда стану выглядывать и выжидать, когда в нашу сторону повернет счастье» (146) .
На вопрос одного из слушателей: «В Мерв собираешься?», Садык возразил: «Нет, пока еще здесь пошатаюсь: с пустыми руками нечего в чужой край собираться: еще кое-кого пощупаю». На вопрос: «Своих?» Садык спокойно ответил: «Кого придется». В этих словах— вся его сущность. Им движут жадность, желание скопить богатство. Эти качества определяют и характер поведения: Садык готов даже грабить и «своих».
В романе показан образ и другого «двуногого волка»— Атамкула. Старший сын бия Бикетая, он с молодых лет стал разбойником и много бед, зла принес аулу и соседям. Под его предводительством начались грабежи на русской границе. Это вызывало ответную акцию войск: невинные аулы подвергались разорению. Так продолжалось лет 7—8. Но во время взятия Аулие-Аты Атамкул присоединился к русским, и в аулах стало спокойно. Когда старый Бикетай умер, его наследство перешло Юнусу. Но и Атамкул «в большие люди вышел»: чин ему дали с золотыми наплечниками, крест с птицею, старшим сделали, стал важнее «аулиеатинского бия». Пример Атамкула заставил и Юнуса попытаться выйти в «джигиты у русских», то есть воевать вместе с ними. Между тем война уже шла в Самарканде. Сюда-то и прибыл Юнус в сопровождении бедного Досщака. Здесь же находился Атамкул, у которого было много джигитов и даже сотня казаков. Досщаку показалось, что Атамкул «по-русски так и режет... вино пьет с начальниками и за руку с самим генералом здоровается».
Во время наступления на Карши джигиты Атамкула и Юнуса, вопреки запрету, стали грабить мирных жителей. Генерал приказал повесить Юнуса за мародерство. Атамкул не заступился за брата и не признал родства с ним, надеясь присвоить его богатство. Между тем генерал спрашивал Атамкула: «Если это твой брат — прощу». Юнус был казнен. Вскоре Атамкул ушел от русских, и вновь стал во главе банды грабителей. К нему-то и примкнул Садык. Атамкул был пленен русскими случайно («на сонного наскочили») и опознан в лагере Досщаком. Но ему удалось бежать: пробравшиеся в русский лагерь сподвижники Атамкула освободили своего главаря, который во время бегства «прихватил» и сына Натальи Мартыновны (в нее бандит безнадежно был влюблен еще раньше). И все же Атамкулу не удалось уйти от справедливой кары. Здесь решающую роль сыграл бедняк Досщак.
Образ Досщака в романе противопоставлен «двуногим волкам»—Атамкулу и Садыку. Досщак — бедный лауча, то есть верблюдовожатый. Он не имел «своей кибитки», не было у него никакого хозяйства, ходил «почти голый, только в меховом бараньем малахае на голове и коротких, кожаных, истертых донельзя штанах». «Приютился» он у бия Бикетая, и на его глазах протекала жизнь «двуногого волка» Атамкула, которого Досщак возненавидел на всю жизнь и стал следить за каждым его шагом.
Русские солдаты с любовью относились к Досщаку, называя его «тамыром» (другом), «старым огрызком», «Досщакой», «правдивой душой» (56). Любовь солдат Досщак завоевал еще и потому, что мог в походе безошибочно находить колодцы в пустыне и тем самым спасать людей. За это он получил даже медаль от русского генерала. В лагере все знали старого Досщака и были уверены, что «худого он не сделает», а хорошего сделал немало.
Имя «Досщак» символично: оно происходит от слова «дос»—друг. Досщак дружелюбен к людям, ненавидит насилие, измену, ложь, корыстолюбие, жадность. Вот почему, опознав в пленном Атамкула, он идет к генералу и, коверкая русские слова, требует казни «волка». «Джандарал нада — арзым бар»,— говорит он. А затем ставит вопрос в упор: «Когда Атамкула вешать будешь?» Досщак с тревогой спрашивает генерала: «Джандарал, зачим не вешал Атамкула? Зачим поймал — не вешал? Убижал будет Атамкулка — нельзя будет вешать... Атам-кулка скоро убижал будет — один день, два дня — убижал» (57). Действительно, ему удалось бежать. Тогда Досщак разрабатывает довольно хитроумный план, который свидетельствует о его незаурядных способностях. Этот нищий лауча приглашает в гости писаря Кузьму. «Садыс, пожалиста, садыс тут, плов ашат, махан ашат, садыс, пожалиста»,— говорил он писарю, угощая отменным пловом. К вечеру «двухгодовалого барана как ни бывало». Досщак оказывал Кузьке особый почет, величая его муллой, мурзою, подавая лучшие куски мяса (121). И все это он делал потому, что писарь «хорошее дело может сделать. И от этого дела хорошему человеку хорошее будет, дурному — дурное».
Вскоре после этого Досщак «случайно» попадает в руки людей Садыка. При обыске у него обнаруживают письмо, в котором «генерал благодарит Атымкула за важные известия о Хиве и обещает по 10 тысяч рублей за головы... Садыка и Мат-Мурада, а также крест и чин полковника». План Досщака удался: Атамкул был обвинен Садыком и другими в измене и казнен. Так завершился жизненный путь одного из «двуногих ВОЛКОВ». Сбылось страшное проклятие Досщака в его адрес: «О проклятый! О, чтоб кости его ни на земле, ни под землею не знали покоя, чтоб его заживо огненная болезнь пожрала!» (47).
В романе есть и образы женщин. Это прежде всего Наталья Мартыновна Чижикова, дочь старого пушкаря, сестра милосердия, не боявшаяся лишений и опасностей тяжелого похода, смело взявшая на себя заботу о раненых и больных. Как скромную и обаятельную женщину, Наталью Мартыновну в гарнизоне любят все. Страстно любит ее и Атамкул, который ревниво следит за каждым ее шагом и из-за ревности готов убить любого, кто приблизится к ней. Он «все просил замуж за него выйти, десять тысяч баранов в калым предлагал». Не добившись взаимности, Атамкул похищает сына Натальи Мартыновны. Это вынуждает последнюю на крайне рискованный, но самоотверженный шаг: мать приезжает в стан Атамкула. Свое освобождение Наталья Мартыновна получает после казни «двуногого волка». В конце романа Наталья Мартыновна выходит замуж за скромного офицера Головина и живет с ним в старом Чиназе.
В ауле Атамкула Наталья Мартыновна познакомилась со старухой из гарема «двуногого волка». Старуха рассказала сказку, в которой были воплощены ее мечты о лучшей доле: это сказка о хане-женщине, о том, что все слуги ее и даже «диван-беги были... бабы». Хана звали Запай, жила она в городе Самирам. А тот город Стоит на тысячах высоких столбов: высоко до него... Но родила Запай сына Искендира, и тогда мужчины взбунтовались и избрали его ханом. Началась битва между женщинами и мужчинами. Одолели женщины. Они связали Искендира и доставили матери, но та не казнила сына, а заколола себя. Тогда Искендир с мужчинами «заполонил» женщин и стал над ними властвовать.
В сказке показана самоотверженность матери, погибшей ради сына. Принесла себя в жертву и Наталья Мартыновна, «добровольно» приехавшая вслед за сыном в стан Атамкула. Утешая этой сказкой русскую женщину, старуха, проведшая в гареме всю свою жизнь, понимает весь ужас ее положения.
Автор уделяет внимание изображению своеобразного пейзажа, на фоне которого развертываются суровые события, завершающиеся гибелью Досщака, настигнутого случайной пулей сторожевых постов. Роман начинается с описания желтого раскаленного песка, в котором торчал деревянный кол, выкрашенный красной краской. На верхней части кола была укреплена поперечная перекладина, где, «нахохлившись», сидел красивый охотничий сокол и дремал. У него были желтоватые, зоркие, разбойничьи глаза. От его неподвижной фигуры на красновато-желтый мертвый песок падала короткая голубоватая тень.
Унылую, безжизненную картину мало оживлял этот неподвижный сокол. Также неподвижно лежали две борзые собаки, очень «тощие, почти голые». Высунув сухие, воспаленные языки, собаки «лежали на боку врастяжку; и если бы только не чуть заметное движение ясно очерчивающихся ребер,— их скорее можно было бы принять за падаль, чем за существа живые, готовые в одно мгновение, по одному призывному свисту стрелою понестись по этим волнистым, сыпучим пескам, которым, казалось, не предвидится ни конца, ни начала».
И сокол, и борзые собаки, и люди в этих мертвых песках лишь кажутся неподвижными, спокойными, мирными. Малейший сигнал — и сокол взовьется в небо, борзые кинутся по следу, а всадники помчатся с гиком за добычей. И Садык, и Атамкул — это хищники: они даже одеты под цвет пустыни, чтобы не выделяться на «красновато-желтом фоне мертвого песка». Таков фон, таков пейзаж в романе. И лишь в рассказе старого Досщака пейзаж оживляется, потому что лауча ярко рисует в своем воображении картину родных гор и могучих рек.
«Двуногий волк», как и другие произведения Каразина, не стал выдающимся событием в русской литературе. Это следует объяснить слабыми художественными достоинствами романа. Автору не удалось создать полноценные, яркие, самобытные образы. И отрицательные и положительные персонажи книги охарактеризованы опять только внешне. Попытки внутренней, психологической мотивировки поступков героев не достигают цели. Однако «Двуногий волк» был встречен русской критикой позитивных позиций, поскольку тема оказалась актульной и привлекательной для широких кругов.
Разносторонне представлена казахская тематика в повестях и рассказах Каразина. Среди них привлекает внимание повесть «В камышах» (1879). В основу ее положена идея дружбы между казахами и русскими. Автор художественно достоверно показывает, как эта дружба прошла через суровые испытания. Примечательно, что русского офицера Касаткина, провинившегося перед официальными властями, защищают жители казахского аула. Разумеется, они понимали, какая их ждет кара, если бы мирные переговоры за жизнь и свободу русского офицера— друга казахов закончились провалом.
Образы казахов в повести, особенно Гайнулы-бабая, муллы Ашика, красавицы-девушки, безнадежно влюбленной в русского офицера, мудрецов-колдунов созданы автором реалистично. На них читатель смотрит глазами Касаткина, искреннего друга кочевников. Автор с тонким лиризмом описывает природу и великолепные сцены жизни казахского аула.
В повести «Таук» писатель на фоне занимательного сюжета, связанного с деятельностью русского разведчика, проникшего на территорию Кокандского ханства, создал запоминающийся образ карлика-горбуна Таука, который «отбился» от бандитской шайки и «пристал» к русским. Последним он оказывал громадную услугу, спасая пленных русских и доставляя необходимые сведения. В самых сложных ситуациях Таук ведет себя смело, проявляя ум, волю и находчивость. И русский разведчик говорит: «Маленький человечек, самою судьбою мне посланный, стал моим руководителем».
Путевые очерки Каразина «От Оренбурга да Ташкента» (Спб., 1886) представляют интерес описанием исторических мест, связанных с движением Пугачева. Любопытны также характеристики типов казахов (они проиллюстрированы авторскими рисунками). Каразин отметил, что между казахскими женщинами «встречаются положительные красавицы, поражающие вас энергией во взгляде, веселым, открытым выражением лица и грацией в движениях» (12).
Как для Оренбурга, так и для других азиатских городов характерно смешанное население. Писатель надеется, что это «упрочивает нашу взаимную связь», то есть он обращает внимание на укрепление отношений между русскими и народами Средней Азии (13). Совершая длительную поездку по казахским степям от Оренбурга до Ташкента, Каразин часто видел следы древних оросительных систем. Он приходит к выводу, что когда-то этот край населяли оседлые культурные племена (10).
Удивили писателя и «оригинальные могильные сооружения» казахов, воздвигаемые ими на вершинах курганов. Пользуясь при жизни легкими переносными жилищами, казахи строили своим покойникам прочные, «почти вековые здания в древнеиндийском тяжелом, но крайне оригинальном стиле. Здания подобные имеют форму четырехгранной пирамиды, усеченной на трети своей высоты; верхняя площадка такой пирамиды украшена куполом и обнесена глинобитным решетчатым барьером» (10). Казахские кладбища нередко представлялись Каразину в виде таинственных городов.
В рассказе «Как чабар Мумын берег вверенную ему казенную почту» создан образ простого казаха, гонца-чабара, который с утра, чуть ли не с солнечного восхода самозабвенно несет свою нелегкую службу в управлении степного форта.
Мумын — коренастый казах, чистейший тип степного бегуна. Автор подчеркивает, что у него «кости были ничуть не слабее железа, его мышцы не знали усталости, его прищуренные, заплывшие жиром, узкие, словно щелочки, косо прорезанные глаза видели вдаль даже ночью лучше комендантской трубки с хитрыми стеклами. Прилегши ухом к земле, он мог за час до встречи распознать какое угодно движение в степи: сайгаки ли перебегают по такыру, верблюд ли бродит где отставший, конные едут ли, каким шагом и сколько».