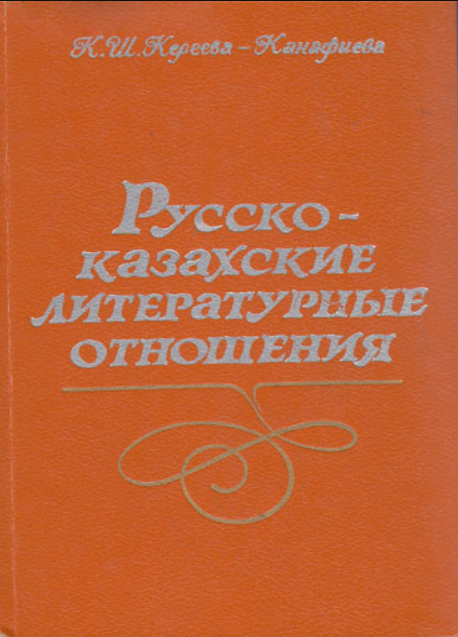Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 20
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Автор заметил у казахов много «похвальных сторон, характеризующих этот народ: все они, например, доброго характера и имеют чрезвычайно развитое глубокое уважение к старости; всегда гостеприимны и готовы к участию на помощь ближнему» (29). У казахов, по мнению Лобысевича, «чувство собственности не развито», поэтому «баранта» вызывается большею частью местью, а не корыстными целями.
Автора очерка интересовало и положение казахских женщин. Он писал, что «под влиянием Корана» женщина находится «в жалком положении». Молодухе, например, не позволено называть настоящим именем родственников своего мужа: каждого из них она называет по-своему. Ф. Лобысевич приводит следующий забавный случай по этому поводу. У одного казаха было пять сыновей, которых звали: Куль (Озеро), Камыс (Камыш), Кашкыр (Волк), Кой (Баран), Пичак (Ножик). Однажды сноха увидела, как за озером, в камышах волк ест барана. Прибежав в аул, она закричала: «На той стороне сияющего (то есть озера — К. К.), на этой стороне шевелящегося (то есть камыша.— К. К.)» блеющего ест воющий, несите туда режущего (то есть ножик.— К. К.).
Хотя казахи «далеко по природе не фанатики и инстинктивно не восприимчивы к мусульманству», тем не менее «муллы...», как «пиявки», сосут достояние народа. К этим «пиявкам» автор относил татарских, башкирских и хивинских мулл.
Главным фактором будущего развития казахов Ф. Лобысевич считал знание русского языка и русской грамоты. Эту цель, по мнению автора, достигнуть нетрудно, потому что казахи «отличаются замечательною охотою к обучению, к занятиям, к просвещению».
Однако наряду с некоторыми прогрессивными планами просвещения казахского народа Лобысевич предлагал в местах зимовок строить мечети и назначать «аху-нов» (мулл.— К. К.). Автору, безусловно, не нравилось, что казахи не ревностные мусульмане, и он проявлял тревогу за судьбу законности и правопорядка там, где религия не смогла пустить глубокие корни.
Из произведений на казахскую тему, опубликованных в первое десятилетие XX в., несомненный интерес представляют очерки Г. К. Гинса «В киргизских аулах» («Исторический вестник», кн. X, 1913). В них отражены многие стороны жизни казахов, которые преобладали в Семиречье «среди туземного населения... области».
Автор с удовлетворением отмечал, что у семиреченских казахов встречаются «уже не случайные и бессистемные запашки, а правильные; хорошо и сознательно поставленное сельское хозяйство с пшеницею на первом плане, с хуторами, с домиками вместо юрт и с настоящими фруктовыми садами возле жилищ». Г. К. Гинс знакомит читателя с одним из образцовых хозяев»—казахом Бильдебаем, который знает «самоучкой русскую грамоту и много русских слов». Целеустремленные действия Бильдебая автор объясняет не только его природными способностями, но и тем, что он «терся вокруг русских...», у которых «многому научился». Теперь у него одно стремление —«нажить деньгу» всякими, в том числе, конечно, и предосудительными средствами. «А его сын будет учиться в гимназии»,— пишет автор.
Появление в казахских степях бильдебаев стало симптомом нового процесса — нарождения землевладельцев-баев, опиравшихся на силу денег. Указывая на заметное влияние новых веяний в жизни казахов, автор вместе с тем считает, что превращение кочевника в земледельца — «дело десятилетия и даже столетия». Пока не иссякнет простор степей, дух казаха будет и в горах и в степях. «А простор стесняется почти стихийно» переселенцами. Автор убежден, что победа будет на стороне пахаря и потому счастливыми станут те казахи, которые вовремя смогут «перейти к земледельческой культуре».
Г. К. Гинс с горечью писал о негативной стороне «выборной системы», установленной царизмом в степях: «Сколько жестокости, лжи, подлости вызывают эти выборы». Даже волостному правителю дорого обходилось получение места, но еще дороже оно обходилось населению. После своего утверждения волостной назначал «каждой кибитке, что она должна ему подарить». И вскоре ему начинали пригонять «табуны лошадей, стада баранов», приносить и «кошель с рублями и много всякого добра». Автор саркастически писал о том, как «выгодно быть волостным, и потому клятвам при выборах нет конца».
Совместное проживание казахов и русских на одной территории, несомненно, способствовало их сближению. Так, Г. К. Гинс встретил однажды в повозке молодую русскую женщину, одетую в платье из синего бархата, и в меховой шапке. Это была жена казахского волостного, дочь русского мужика, бежавшая от родных к соблазнившему ее богатством и красотою казаху. Небезынтересно указание автора на то, что казахи стали считать русских девушек «образцом красоты». Например, один степной богач заплатил за русскую девушку «восемь тысяч рублей, много лошадей да еще отдал в придачу двести десятин под пашню».
Автор сослался еще на пример. Из одной крестьянской семьи бежал сын. Оказалось, что парень постоянно ездил к казахам, которые его поили и кормили, а потом он влюбился в казахскую девушку и «убег». Казахи скрыли беглеца, дали ему много скота, поженили и отправили на озеро Иссык-Куль. Автор писал, что «так иногда завлекает к себе киргизская вольница».
Крепнущей дружбе казахов и русских печать того времени уделяла значительное внимание. В конце XIX и начале XX вв. появились произведения, показывающие., насколько глубоко зашел процесс сближения русских и казахов. В этом отношении интересен рассказ Г. Андреева «Жизнь без красок» (Сб.: «Степные миражи», Ташкент, 1914, кн. I), в которой повествуется о лесном объездчике Васыле (так звучит по-казахски имя русского Василия), громадном бородатом «детине», одетом в казахскую мохнатую шапку и армячиный халат. Урус (русский.— К. К.) Васыль, первый балалаечник и песенник, уже давно живет среди казахов, «свыкся, породнился с ними», одевается, как казахский джигит, влюблен в казашку и счастлив по-своему.
Эти же мотивы нашли отражение и в творчестве М. К. Приорова (Топорского), посвятившего казахам целый ряд рассказов из цикла «Подрастающему поколению» (М., 1915). Его произведения иллюстрированы рисунками Н. Н. Каразина и др.
Так, в рассказе «На разведке в степи» автор описывает свое знакомство с мирным казахом Марам-баем, старым воякой, батыром, загорелым, коренастым, в рубцах от старых ран. Он поклонился русскому офицеру, приподнял шапку и протянул руки. В отряде, кроме Ма-рам-бая, был и другой казах, Кылыш-бай, который пел песни о степи. Автор писал, что Кылыш-бай
...пел о свободе, о вольном просторе,
О пастбищах, сочных лугах.
Он пел о кочевках в степном своем море,
О тени в походных шатрах.
О звездах он пел, о луне, о девицах,
Прохладных колодцах, кострах...
М. К. Приоров писал, что в этих песнях раскрывались думы народные о счастливой жизни. Поразила автора и манера исполнения певца: «Сначала тихо, а там громче и громче затянул он длинную ноту» песни и «потянулась она протяжными гаммами, потянулась и росла больше и больше и шла также однообразно и бесконечно, как сама степь, как этот далекий горизонт, как это синее, бесконечное небо». Прислушиваясь к мелодии, Марам-бай говорил задумчиво: «Да, славно поет Кылыш-бай про свободу... славно поет, да только свободы-то на земле нет. Я это знаю верно». Показывая на далекие звезды на ночном небосклоне, он продолжал: «...Вон там свобода и воля, а здесь их нет на земле, я знаю это верно». С грустью вспоминал он о том, как в молодости никому не хотел кланяться, не слушался ни ханов, ни биев, ни старшин, ни казаков. В поисках вольной земли, где «каждый себе хан, где каждый себе бий, где воля да свобода», бросил степь молодой богатырь Марам-бай. Много разных путей-дорог исходил свободолюбивый батыр, но нигде он не нашел вольной земли...
М. К. Приоров описал сцену единоборства Марам-бая со своим врагом. Оно происходило на виду русского отряда и толпы казахов. Поединок воскресил картину далекого прошлого, когда воины один на один выезжали помериться силами. «Нельзя было узнать старика Марам-бая, когда, держа свой трофей высоко над головой», он примчался в отряд; «куда делясь его старость, куда делись его морщины и согнутый стан». Перед русскими стоял «молодой воин, счастливый победитель», глаза которого горели, и сам он лихо сидел на коне.
Автору удалось создать запоминающиеся образы двух казахов, один из которых, Кылыш-бай,— человек поэтической натуры, изливающий свою тоску по воле и свободе в задушевных песнях, а другой, Марам-бай,— человек с философским образом мышления, рыцарь, остро чувствующий несправедливость, готовый за свою честь и свободу биться насмерть с любым врагом.
В рассказе «История одного киргизского мальчика (быль)» М. К. Приоров повествует о том, как однажды во время похода отряд обнаружил в горном ущелье казахского мальчика, всеми покинутого и несчастного. Мальчику было лет 13. Русские приютили его, накормили, одели. Но к городской жизни юный степняк привыкал с трудом. В городе Аликеша научили грамоте, но его тянула степь. И он был отпущен в родную стихию.
...Лет через 15 автор узнал от купца, что Аликеш стал выборным старшиною в ауле. Не забыл он и своего русского благодетеля: прислал поклон, а в подарок — саблю и уздечку с бирюзою.
М. К. Приоров с большим сочувствием писал о простых казахах, о их нелегкой жизни.
Укреплению авторитета русских людей среди народов Средней Азии и Казахстана способствовали нередко их демократизм и справедливость в решении ряда сложных вопросов. Так, в книге Б. Тагеева-Рустам-бека «По степям и горам Азии» (М., 1910) описывается в общем-то обычная ситуация: бедный певец Касым влюбляется в дочь богача, волостного правителя Токур-бека и получает отказ на брак. Более того, Токур-бек, страстный любитель старины, каждый вечер заставлявший Касыма петь свои любимые былины, выгоняет его. Однако влюбленные совершают побег. На беглецов неожиданно нападает отвергнутый ранее жених, сын богача. Он ранит Касыма, а невесту привозит к родителям, чтобы получить согласие на брак. В этой критической обстановке Касым, по совету невесты, обращается к русскому коменданту. Русские принимают живейшее участие в судьбе замечательного певца. Комендант со свитой выезжает в аул Токур-бека и заставляет богача отдать дочь за Касыма, а калым, по его указанию, выплачивает бывший жених, который пытался из-за угла убить певца... Разумеется, подобные события получали широкий резонанс как в степях, так и в горах Средней Азии. И мнение, что русские справедливы, имело вполне реальную основу.
Дружбе казахов и русских посвятил свой очерк П. Потапов. Автор приводит немало интересных этнографических данных из жизни коренного населения. Заслуживает также внимания его сообщение о том, что русские люди охотно подчиняются суду биев и остаются довольны.
В 1904 г. появился рассказ М. Лаврова «Кочевники» с подзаголовком «Жизнь в киргизской степи». Автор подробно описал быт казахов, отметил, что у кочевников основу жизни составляют стада, познакомил русского читателя со многими казахскими обрядами, выполняемыми, например, при рождении ребенка, во время сватовства, нарисовал яркую картину пиршества-тоя и т. д.
Об отдельных сторонах жизни казахов рассказывал и И. Я. Словцов, который считался деятельным натуралистом. Существовало мнение, что в Омске не было «головы, которая была бы набита ученостью так, как голова Словцова...». Он совершил ряд поездок по территории края, побывал в кокчетавских степях. Его перу принадлежит ряд статей и очерков, в том числе и на казахскую тему. В своих «Путевых записках» (1897) И. Я. Словцов обратил внимание на радушие и гостеприимство казахов. Он описал, например, как они, русские путники, повстречали пастухов и певца-джатака. Появился кобыз, и звонкая гортанная песня разлилась в воздухе. Певец, импровизируя, хвалил русских, радовался приезду гостей. Через переводчика Акилбека русские путешественники попросили певца исполнить что-нибудь о богатырях. Желание гостей было исполнено: певец спел легенду об Ар-стан-батыре и Айдагыр-чудовище.
Излагая содержание легенды, И. Я. Словцов пишет, что было бы «интересно собрать полные варианты» ее. Автор подчеркивает, что казах — «поэт, юморист и подчас глубокий мыслитель». В подтверждение сказанного он приводит множество казахских пословиц, которые были им тщательно изучены. Автор сделал попытку их классификации. Его переводы вполне удачны. Все это, разумеется, заслуживает положительной оценки.
Старейшая газета края «Туркестанские ведомости» в передовой статье (1900, № 81) призывала своих читателей знакомиться «с туземной» литературой, чтобы знать интимные стороны духовной жизни мусульман.
Не только провинциальная печать Оренбургского и Туркестанского краев, но и журналы, газеты обеих столиц публиковали произведения на казахскую тему. Нередко печатались переводы. Например, «Вестник Европы» в 1874 г. (№ 12, 720—721) поместил две казахские песни — образцы нравоучительной и любовной поэзии казахов. Автором переводов был, по-видимому, П. Распопов, известный и другими переводами с казахского на русский. Следует заметить, что Распопов впервые использовал подстрочный перевод, который осуществляли казахи, владевшие русским языком. Такое творческое содружество безусловно оказалось плодотворным.
Несколько казахских пословиц, записанных в Тургайской области и опубликованных в местных областных «Ведомостях», поместил на своих страницах даже «Правительственный вестник» (1892). Во вступлении к этим публикациям отмечалось, что казахские пословицы «в большинстве весьма любопытны», в них «выражаются нравственные начала и взгляды на жизнь», они «носят отпечаток кочевого быта». Таковы, например, пословицы: «Человеку за язык, корове за рога (достается)»; «Рассеянный человек и верблюда не увидит» и др. Следует заметить, что некоторые из них были опубликованы и на страницах других дореволюционных периодических изданий.
Известным собирателем образцов казахской «народной словесности» был А. В. Васильев. Свои записи песен, загадок и сказок он приводил со слов жителей Тур-гайской области. Автор отмечал, что у казахов существовала своеобразная форма предложения загадок в состязательных песнях или в посланиях. Образцы таких «произведений живо сохраняются в памяти и передаются из рода в род».
А. В. Васильевым опубликованы 24 казахские сказки, в том числе «Мальчик Тазша», «Девица Карашаш», «Алдаркосе» и др. Автор с удовлетворением отмечал, что появление среди казахов лиц, получивших русское образование, значительно облегчило запись произведений «народной словесности». Кроме того, автор указывал на положительную роль применения к казахскому языку русского алфавита. Русская транскрипция казахских звуков позволяла «возможно точно отметить все фонетические особенности» казахского языка.
В связи с изданием «Киргизской степной газеты» А. В. Васильев вновь обратил внимание на казахский язык и его транскрипцию. Ссылаясь на мнение известного ориенталиста Н. И. Ильминского, который утверждал, что если «арабская транскрипция еще маломальски идет к татарскому языку», то она совершенно не годится для казахского языка, поскольку скрывает и стушевывает «фонетические особенности» последнего, Васильев предостерегал от опасности уничтожения казахского языка. Единственным средством его «спасения» Васильев считал русский алфавит, как один из самых богатых среди европейских и азиатских.
Между тем в «Киргизской степной газете» использовалась арабско-татарская транскрипция, что, по мнению Васильева, противоречило даже самой цели издания. Появление двуязычной газеты сразу же столкнулось с проблемой полноценного перевода с русского языка на казахский. Не случайно А. В. Васильев обратил внимание даже на перевод самого названия газеты: «Киргизская степная газета» как «Дала уаляетенен газеты». Слово «дала»— казахское и означает «степь» и «газеты» — русское, а слово «уаляетенен» происходит от турецкого «вилает» — административная единица в Турции, которая должна заменить понятие «степное генерал-губернаторство». Решительно восставая против подобных смешении и искажений смысла, Васильев замечал, что и казахский раздел газеты «ведется в ней далеко не безупречно», поскольку «Киргизская степная газета» уделяла преимущественное внимание материалам из жизни стран Востока (арабов, турков), приводя примеры добродушия, храбрости, довольства, великодушия сподвижников ислама.
Известный интерес представляет рассказ русского зоолога и путешественника М. Н. Богданова (1841—1888) «Орлиная дума».
Бедный казах Исет приобрел орла, заботливо относился к птице. Много лет прожил орел у своего хозяина, много лис и волков, корсаков и сайгаков доставил он владельцу. Слава о крылатом охотнике распространилась но степи. Однажды приехал к Исету султан Баймурза. Он просил продать ему орла, но Исет отказал. Когда Исет отправился на охоту, коварный султан его убил. Орел, увидев мертвого хозяина, со страшной яростью напал на султана, впустив свои когти в лицо убийце. Султан погиб в когтях птицы. Острым клювом вспорол орел грудь султана, вынул сердце и съел, а затем покружил над трупом и взвился в облака.
В очерке П. Антонова «По Туркестану» (1911) дано описание перехода каравана с берегов Каспийского моря через казахские степи в Ферганскую долину. Чтобы познакомить читателя с кочевниками, автор пользуется излюбленным приемом, к которому до него прибегали Инфантьев, Тагеев-Рустам-Бек и другие: в произведении появляется любознательный мальчик Миша (Сережа, Саша и т. д.), на чьи вопросы охотно и пространно отвечает опытный и начитанный Иван Иванович. Он разъясняет, что казахи живут в степях, ведут кочевой образ жизни и т. д.
Запоминающиеся образы представителей кочевого народа создал не только в серии содержательных очерков, но и в художественных рисунках Б. Смирнов (1914).
Любопытны взгляды безвестного русского учителя, проработавшего в казахских степях три года. Приехав из Центральной России, он попал в среду «радушного и гостеприимного народа». Наибольший интерес в статье учителя представляют его суждения о просвещении казахов. Автор подчеркивал, что это «очень переимчивый и любознательный народ», с удовольствием отмечал его особенную склонность к грамоте, к образованию, писал, что казахи «живо интересуется политикой и усиленно читают газеты». Однако, будучи проводником официальной политики царизма, автор выражал сожаление, «что в руки этого наивно доверчивого, слепо верящего каждой напечатанной строке народа попадают преимущественно революционные листки» (курсив наш.— К. К.).
Если учесть, что данная статья появилась в печати в 1906 г., а ее автор высказывал свои впечатления за предыдущие годы, это еще раз подтверждает тот факт, что в период первой русской революции 1905 г. в казахских степях появлялась революционная литература, которая, без сомнения, становилась достоянием казахских трудящихся.
В этом же плане важно и другое свидетельство неизвестного автора о том, что казахи, «сознавая себя гражданами великой России.., охотно отдают своих детей учиться в русские школы и не жалеют средств, чтобы вывести их в люди». Они, по мнению автора, «уже давно сознав пользу и необходимость русской школы.., ассигновали необходимые и весьма значительные суммы на учреждение в волостях таких школ с преподавателями русскими». Автор сожалел, что царские чиновники, в ведении которых находится дело просвещения казахов, не уделяют должного внимания этому вопросу.
Н. И. Пестель в своей книге «Русская правда» (Спб., 1906) коснулся двух аспектов, связанных с казахами. Он считал их земли прекрасными местами, которые «могли бы обратиться в отличную страну», способную обогащать Россию «многими произведениями природы и многими способами для самой выгоднейшей и деятельнейшей торговли».
Н. И. Пестель предлагал из казахских земель составить «особенный» удел, «наподобие Донского», а казахов по положению, устройству и образованию привести «в соответствие» с донскими казаками... Пестель даже предлагал «киргизов» (казахов) «переименовать в аральских казаков».
Корни ошибочных утверждений Н. И. Пестеля кроются не только в его слабом знании вопросов этнографии, истории, культуры и т. д. казахского народа, но и в тенденциозном стремлении автора усилить колонизаторскую политику царизма, в стремлении указать пути быстрейшего экономического освоения богатств казахских степей, в горячем желании автора интенсифицировать процесс русификации казахов, с тем чтобы превратить их в безопасную, но прочную опору самодержавия.
Большой успех у русских читателей имела книга И. И. Гейера «Туркестан» (1909). Лестные отзывы о ней появились в «Вестнике Европы», «Русской мысли» и др.
И. И. Гейер уделил много внимания казахам, подчеркивая, что они «своим присутствием» оживляют бесконечные степи и безлюдные пустыни Средней Азии. Автор явно идеализирует, когда пишет об очень простой, но «по-своему милой и отчасти поэтической жизни» казахов, у которых нет «особых забот, труда и борьбы с окружающей природою». Вместе с тем Гейер характеризует казаха, как человека невзыскательного, способного «безропотно переносить голод, как нечто неизбежное, жарить тело свое почти под вертикальными лучами солнца в течение лета и дрожащего в войлочной дырявой юрте зимою». Автор, очевидно, не заметил, что второе его утверждение противоречит первому, но оно более соответствует истине: казахи, действительно, были подвержены всем случайностям суровой природы н жили в тяжелых условиях. Гейер неправильно полагал, что казахи не смогут жить в условиях города, что там они так же зачахнут, увянут, как «полевой цветок, поставленный в роскошную вазу с водой».
И. И. Гейер был редактором газеты «Русский Туркестан». При нем она держалась умеренно-либерального направления. Однако в годы первой русской революции, когда редакцию возглавляли М. В. Мороз, А. Б. Борейша и А. В. Худаш, газета приняла социал-демократическое направление, что привело к временному приостановлению ее издания (25 августа 1906). С 26 августа газета стала выходить под названием «Туркестан» (редактор А. Б. Борейша). Когда и этот орган был закрыт, начал выходить новый — «Вперед» под редакцией А. И. Симонова и И. П. Плят.
Эти газеты сыграли определенную роль в пробуждении самосознания народов Туркестана.
Из дореволюционных русских художников слова, писавших о казахах, следует упомянуть и имя Георгия Дмитриевича Гребенщикова (1882—1961) — талантливого беллетриста, уроженца Восточного Казахстана, с большим трудом пробившего себе дорогу в большую литературу. Его творчество было посвящено описанию быта и жизни народов Алтая, Сибири и казахских степей. Он оставил около 30 томов художественных и публицистических произведений, высоко оцененных Горьким, Куприным и др. Дореволюционная русская критика также положительно оценивала деятельность писателя, подчеркивая самобытность и мужество художника, для которого «правда жизни» имела «первостепенное значение».
Казахам писатель посвятил целый ряд произведений. И не случайно, что он обратился к переводу поэмы польского поэта Г. Зелинского «Киргиз» («Казах»), поскольку в ней увидел «обширный и оригинальный мир кочевника-киргиза (казаха.— К. К., еще недавно находившегося в полном расцвете поэтической воли». Гребенщиков сожалел, что поэтический мир казаха «быстро, на наших глазах, начинает блекнуть».
В нескольких фразах переводчик польского поэта указал на причины, которые привели к столь печальному положению казахской «поэтической воли». Гребенщиков писал: «Там, где еще вчера колыхались серебристые волны степных ковылей и царствовал патриархальный... уклад жизни — сегодня там вклинилась крестьянская жизнь и девственная степь испещрена заплатами распаханных полей и сморщена серыми и грязными, беспорядочно столпившимися хатами чуждых степняку пришельцев.
И сын степей, вольный пастух и смелый всадник, становится покорным рудокопом, спускаясь в недра родной земли, или в лучшем случае впрягается с конем своим в кривую соху и пытается довольно неудачно подражать терпеливому мужику-землеробу.
Пройдет еще немного лет и полная поэзии кочевая жизнь превратится в скучную прозу безропотной ноши мужицкого ярма, под тяжестью которого уже не воскреснут смелые взмахи минувшей удали и умрут последние воспоминания о былых красотах степного простора».
Справедливо указывая на распад патриархальных устоев в жизни казахов, Гребенщиков видел в его причинах лишь одни негативные моменты, не понимая или не желая понимать, что в казахскую степь проникали властно, требовательно элементы новой социально-экономической формации. Русские переселенцы не только испещряли заплатами распаханных полей казахские степи, но они несли сюда новую земледельческую культуру, А первые капиталистические рудники, где работали рудокопами вчерашние «вольные пастухи», способствовали возникновению первых национальных рабочих, единственной, до конца революционной части всякого общества в эпоху капитализма.
Воспевая поэзию патриархального казахского аула, Гребенщиков не принял того нового, что несла с собой эпоха бурного развития буржуазии в России, когда капитализм стал вовлекать в свою орбиту и далекие национальные окраины. Эти ошибочные взгляды Гребенщикова наиболее полное отражение получили в цикле рассказов «Степь да небо» (Томск, 1910 г.). В них-то и опоэтизирован исчезающий патриархальный быт казахов. Вместе с тем он с большой любовью и пониманием относится к их устному творчеству. Так, в рассказе «Степь да небо» (из одноименного цикла) автор подробно излагает содержание казахской легенды, стараясь сохранить не только ее дух, но и живописный, национальный колорит.
Любопытно и само начало легенды. Русский гость (автор.—К. К.) с видимым удовольствием слушает неторопливый рассказ: «Вот пришел караван верблюдов из чужой, далекой земли...». В этом традиционном начале, как в запеве, автор дает почувствовать, что легенда древняя и что она принадлежит казахам. Вот краткое ее содержание. Местный властелин Назыр-хан-богатырь спрашивает вожака каравана Беркут-хана-богатыря, как смеет он без спроса в его землю приходить. Беркут, который в легенде показан, как «умная голова», перечисляет богатые подарки для Назыра: белый верблюд, золотом шитый ковер и красавица, «которая сидит на белом верблюде, на золотом ковре». Требование Назыра снять покрывало с лица красавицы Беркут отвергает потому, что Назыр-хан может ослепнуть. Когда наступает ночь, Беркут надел наряд своей невесты, взял острый нож и вошел в юрту спящего Назыра...