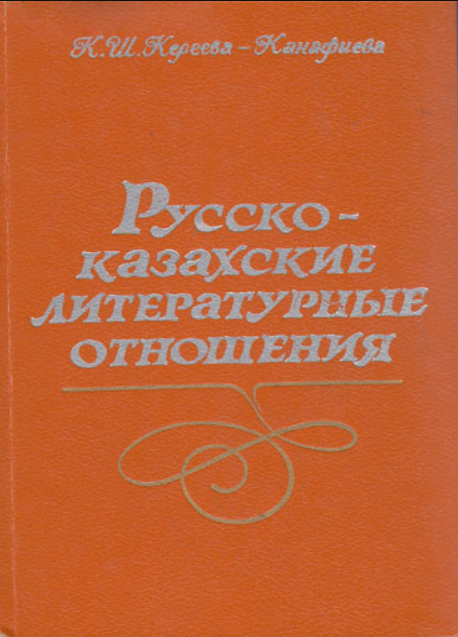Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 8
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Несмотря на то, что в литературе многократно описаны приемы угощения у казахов, большой интерес представляют и впечатления самого Короленко. Русские гости сидели на полу обширной юрты, по-казахски подогнув ноги. Писателю подали подушки, что показалось ему гораздо более удобным. Когда появился котел с бараниной, хозяин придвинул его к себе и, взяв голову с тусклыми сварившимися глазами, подал ее писателю. Помня наставление своих спутников, Короленко вернул ее хозяину, который «слегка кивнул головой и стал крошить мясо». «Для этого, вымыв предварительно руки, он брал куски из котла и крошил их ножом в деревянную чашку. Затем, вынув глаза, он с видимым удовольствием съел их и, разломав череп, подавал куски головы гостям»,
Когда кушанье было готово, один из спутников писателя сказал: «Ну, теперь смотрите, как надо есть». И далее автор иронически описывает, как этот «знаток» казахских обычаев начал есть: «Он засунул всю пятерню в чашку и, захватив полной горстью куски баранины, закинул голову и поднес все это ко рту. Жир стекал ему на бороду, но он ловко хватал ртом куски и облизывал пальцы. При этом он чавкал, чмокал и жевал так громко, что вся кибитка наполнилась этими звуками».
Заметив, что писатель затрудняется последовать примеру, хозяин кивнул женщинам, и ему тотчас же подали тарелку с вилкой. Между тем «знаток» обычаев «совал пальцы в рот еще дальше и обсасывал их еще громче». Сами казахи «делали почти то же, но как-то иначе и проще, так что от столь демонстративного проявления «уважения к обычаю» писателю «становилось неловко». И уж совсем «неловко» стало автору, когда один из захмелевших его спутников-торговцев «руками хватал за талию» женщину, прислуживавшую гостям. Между тем «хозяин следил за этими манипуляциями внимательным взглядом, как бы готовый остановить проявление «русских обычаев» на известной ступени... Но женщины иногда с улыбкой, а большей частью со спокойным достоинством уклонялись и скользили мимо».
Когда в конце ужина гостям преподнесли свежий кумыс, появился и домбрист. Молодой казах, войдя в юрту, поклонился. В его походке и манерах автор заметил «некоторое достоинство». «На ремне через плечо у него висела домбра, нечто среднее между балалайкой и гитарой, с двумя струнами и очень длинным грифом. Ему тоже поднесли кумысу и затем постлали ковер в середине кибитки. Усевшись по-восточному, он настроил домбру, окинул нас взглядом черных быстрых глаз и, слегка приподняв голову с торчащей черной бородкой, стал петь».
Звуки казахской песни показались писателю своеобразными и странными: «Сначала они бежали, нагоняя друг друга и как бы сталкиваясь, потом становились медленнее и заканчивались долгим тягучим отголоском, как бы замирающим в отдалении». Короленко заметил, что «певец, видимо, щеголял этими последними нотами, которые дрожали, волновались, ломались и трепетали, то совсем замирая, то оживая вновь и опять разгораясь, чтобы стихнуть едва заметно, задумчиво, с какой-то особенной печалью, в которой дрожали отголоски каких-то далей... без конца, без краю, без определенных образов и только с безграничной унылой тоской».
Звуки казахской песни «настраивали» автора «особенным образом». Ему казалось, что домбрист «поет что-нибудь о старине этих степей».
Один из захмелевших гостей стал подпевать домбристу, а затем между ним и певцом «установился настоящий диалог». Казахи и русские, «понимавшие значение этого состязания, только улыбались». Однако и те и другие единодушно признали, что если певец и поет «не как настоящий поэт, то во всяком случае, как настоящий» казах.
В. Г. Короленко дал правдивое описание «зимнего аула»: его убогих землянок, размытых дождями, «с плоскими крышами, на которых росли степные травы». С писателем произошел любопытный эпизод, связанный с переправой через ветхий мостик. Когда путешественники не без опасности перебрались через речку, к ним подъехал стройный джигит, который потребовал от имени какого-то хана плату за переправу/Получив мелкую серебряную монету из рук Короленко, джигит подскакал к мальчику и почтительно подал ему дань. Тот с детской живостью стал показывать монету женщинам, сидевшим в телеге.
В. Г. Короленко красочно описал базар в Карачагане: «В обширных загонах тупо переминались и по временам глухо ревели быки, косяки лошадей нервно бились на местах, то сбиваясь в кучи, то порываясь в степь. Пастухи в остроконечных шапках и с длинными укрюками (крук.— К. К.) в руках шныряли между ними, водворяя порядок».
Живописные фигуры казахов в ватных халатах (несмотря на знойное утро) заполнили всю площадь. Автор заметил, как «солидные джигиты, закрывшиеся зонтиком от палящих лучей солнца, съезжались кучками и соткнув морды лошадей, беседовали друг с другом, делясь новостями и, может быть, запасаясь политическими известиями о войне, чтобы развезти их по степи, которая уже претворит и преломит их по-своему».
От острого глаза писателя не ускользнуло и то, что в других местах базара «сходились или съезжались на поджарых и тощих лошадях работники и беднйки». Автор подчеркивает, что ему «нигде не доводилось... видеть таких невероятно живописных лохмотьев». Он обратил внимание и на казахских ремесленников. Так, на самом краю базара кочевой кузнец-казах «раскинул убогую кибитку, всю просвечивавшую изодранными циновками, и его молотобоец раздувал мехами жаровню».
В Карачагане находилось волостное правление, расположенное в двухэтажном каменном здании, одна из комнат которого была отведена для заседаний выборных биев. Волостной писарь любезно показал писателю дом, а также небольшую каморку—«кутузку», добавив, что «еще недавно существовало для казахов телесное наказание, но оно до такой степени оскорбляло вольных сынов степей, что его упразднили». Короленко считал, что для казахов «и заключение является карой очень суровой». Тем более, что даже писарь говорил: «Очень они этого не уважают... Поверите, плачут, как дети. Народ степной, вольница. Ему лестно на свежем воздухе».
В. Г. Короленко высказал несколько серьезных замечаний о системе управления казахами Оренбургской губернии. В частности, он писал, что казахам «Оренбургского ведомства очень не везло насчет административного устройства и управления». В то время, как при устройстве сибирских казахов «принимались в соображение исторические условия быта и нужды» («что по общим отзывам давало отличные результаты»), приуральские казахские степи «служили ареной постоянных экспериментов другого рода: правительство издавна поддерживало здесь ненавистное народу потомство Абулхаира, стараясь управлять при посредстве высшей аристократии».
По мнению автора, указанные попытки правительства «никогда не удавались», и в среде ближайших казахских «соседей происходили замешательства, беспорядки и непонятные мгновенные вспышки». Причиной их автор считал игнорирование черт родового быта, безнадежную запутанность земельных отношений отдельных родов, неоднократные приемы перекраивания степи «на разные лады». Короленко совершенно верно отметил, что «старое родовое устройство стиралось не в пользу каких-нибудь устроительных начал. Его место занимала простая путаница, ловкие захваты и все большее утеснение бедноты» (подчеркнуто мною.— К. К.).
Анализируя административное устройство казахских степей, Короленко обратил внимание на то, что «основанием этой системы внизу является аул... Несколько аулов соединяются в волости с выборным управителем... и волости и управители подчинены уездному начальнику, чиновнику, назначаемому правительством». Писатель считал, что эта «система очень далека от совершенства», поскольку «управители и бии являются представителями интересов степных богачей... экономически страшно обездоливающих массы».
В. Г. Короленко были известны слухи о предстоящей новой реформе, при которой волостные управители также будут назначаться правительством. Однако писатель был твердо убежден, что и эта «реформа, в направлении чисто бюрократическом» не устранит крупные недостатки в управлении краем. Писатель рекомендовал учитывать истинные интересы народа.
Говоря о «недоверии, с каким относится местное казачье население к видимому спокойствию» в казахской степи, автор считал, что «отчасти здесь говорит, конечно, «старая кровь», память о борьбе и взаимных обидах, незаконченные земельные споры и т. д.». В беседах с писателем некоторые местные жители были склонны считать причиной указанного «недоверия» так называемый «мусульманский прозелитизм». На это Короленко справедливо отмечал, что мусульманство у казахов «еще недавнего происхождения» и потому казахам «чужды до сих пор не только фанатизм, но и особенно усердие в вере».
Ссылаясь на Г. Н. Потанина, указывавшего, что это явление исходит «из глубины мусульманской Азии», Короленко вместе с тем отмечал веяние и с другой стороны. Речь идет об обращении в православие в прошлые века прикамских и приволжских татар «часто недостойными христианства мерами». Писатель иронически замечал «бумажное» обращение: татар заносили в списки православных, а они целыми поколениями оставались в мусульманстве. Однако впоследствии, когда оживилась «административно-миссионерская деятельность», против этих фактических мусульман из-за их бумажного православия было выдвинуто обвинение в «отступничестве», что вызвало цепь беспорядков и волнений. Муллы, ходжи разнесли известия об этих событиях «по всем концам», что дало пищу «мусульманскому прозелитизму» даже в «малозатронутых» до сих пор казахских степях.
Поэтому Короленко внимательно прислушивался к мнению лиц, утверждавших, что «перенесение подобного же миссионерского усердия за Урал (то есть в казахские степи.— К. К.) могло бы стать источником больших усложнений и задержало бы надолго действительное воздействие русской культуры».
Во время поездки Короленко познакомился и с русскими переселенцами—«авангардом мужицкой Руси в дикой степи». Он писал, что «съемка земли у киргиз (казахов.— К. К.) воспрещена законом, русского мужика или казака не пускают с сабаном через границу степи». Но все же мужики проникали в степь, нанимались к зажиточным казахам. Эти наемные работники становились «настоящими учителями нового еще у хозяев земледелия». Вместо платы они получали «право пахать и сеять уже на себя». Автор указывал, что, конечно, положение такого земледельца очень шатко. Юридически посев принадлежит казаху, однако «еще не было случая», чтобы казахи «воспользовались этим формальным правом».
Заключая свою беседу с мужиками, писатель с удовлетворением отмечал: «Вообще, в противность отзывам казаков, отзывы о киргизах этих пришлых мужиков чрезвычайно благодушны». В одной из избушек он беседовал со старухой, все лицо которой было в морщинах, и «из каждой морщины глядело что-то необыкновенно привлекательное, простодушное и доброе». Старуха охотно отвечала на его расспросы и заявила, что казахи «народ добрый» и «жить ничего, можно».
В. Г. Короленко писал, что «так тихо и просто просачивается сюда, за степную заветную грань земледельческая Русь, занося с собой борону, соху, веялку, новое отношение к земле, новые верования или только смутные их искания, новые нравы и... новые могилы».
Автора покоряют красота степи, и ее «спокойная нега, степное раздолье охватывает и баюкает его». Любуется он и чудесным степным закатом. Его внимание привлекают и маленькие степные станции с по-казахски («по-монгольски») звучащими названиями. Писатель видит степной поселок, принадлежащий местному богачу, скотопромышленнику, владевшему «в вольной степи» несколькими хуторами и десятком тысяч голов скота. По степным дорогам двигались телеги с бородатыми мужиками, «ковыляли» верблюды. Во встрече всадника на верблюде с велосипедистом автор увидел символическую встречу величавой Азии с юркой и подвижной Европой.
Таким образом, из сказанного достаточно четко предстает идейно-творческая позиция В. Г. Короленко, последовательного демократа и гуманиста, смело выступавшего в защиту попранных прав казахского и других народов России.
* * *
Как видно из обзора, интерес лучших представителей русской демократической литературы к жизни, быту и поэтическому творчеству казахов был закономерен. Именно во второй половине XIX в. особенно заметно проявился многонациональный характер русской литературы, чему способствовали прежде всего сложившиеся исторические и экономические условия. В этот период утверждаются прочные основы единения русского с другими народами, добровольно вошедшими в состав России, что повлекло за собою важнейшие прогрессивные социально-экономические и культурные последствия. Передовые деятели русской культуры и литературы стремились понять психологию, узнать прошлое и настоящее братских народов, связанных с Россией общей исторической судьбой, помочь им в их движении вперед.
Участие русских классиков в становлении и развитии русско-казахских литературных отношений, несомненно, придало этим связям особый, высокохудожественный характер и оказало огромное влияние на утверждение демократического и гуманистического направлений в казахской национальной литературе. Вместе с тем русские писатели-классики тоже почерпнули немало, использовав в своем творчестве материалы казахской устной поэзии, казахские образы, темы, сюжеты.
Таким путем закладывались основы дальнейшего развития взаимосвязей двух литератур.
Ч. Ч. ВАЛИХАНОВ И Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
Появление на исторической арене в 50—60-х годах -прошлого столетия даровитого казахского ученого, мыслителя и литератора Ч. Ч. Валиханова было обусловлено целым рядом факторов. Семья Валиханова была предана интересам России и многие ее члены, в том числе отец Чокана Чингис, издавна были приобщены к русской культуре. Учеба Чокана в Омском кадетском корпусе, тесное общение его с семействами прогрессивно настроенных русских чиновников, встречи в их среде с образованными литераторами, художниками, путешественниками, чтение русской литературы — все это оказало значительное влияние на формирование личности Чокана.
У юноши быстро развивалась живая любознательность ко всему новому. Он стал мечтать о далеких странствованиях, о проникновении в глубь таинственной Азии. Известно, что эти юношеские мечты нашли реальное воплощение: в 1858—1859 гг. Ч. Валиханов совершает труднейшее путешествие в Восточный Туркестан. Его имя становится в ряд имен выдающихся путешественников XIX в. Однако еще до этого он осуществил поездку «на восточные берега Иссык-Куля, где собрал богатый запас географических, этнографических и исторических материалов», как пишут в своей рекомендации П. П. Семенов и В. И. Ламанский при избрании его 21 февраля 1857 г. действительным членом Русского географического общества.
Важно следующее указание П. П. Семенова о роли Ч. Ч. Валиханова как первого исследователя «ближайших... частей Тянь-Шаня». Именно им «был проложен» путь в эти районы. В 1858 г. офицер русской армии, казах Валиханов в «своем национальном... костюме» пробрался с торговым караваном через Заукинский перевал в Ташкент и собрал там много интересных научных этнографических и статистических данных, которые в последующем разрабатывал под руководством П. П. Семено-ва-Тян-Шанского.
После блестящих результатов путешествий Валиханова в различные районы Тянь-Шаня, Ташкент и Кульджу по инициативе и при поддержке некоторых видных русских ученых и дипломатов (Е. П. Ковалевского, П. П. Семенова и др.) ему было поручено важное государственное задание — проникнуть в закрытую для европейцев Кашгарию (Восточный Туркестан), входившую в состав Цинской империи. В 1856—1858 гг. Семенов указал генерал-губернатору Гасфорту на то, что Валиханов «был единственным из состоящих в то время при генерал-губернаторе офицеров, который будучи послан в национальном киргизском (казахском.— К. К.) костюме в Кашгар, мог бы, по своему развитию и талантливости, собрать драгоценные для России сведения о современном состоянии не только Кашгара, но и всего Алтышара и разъяснить причины происходивших в то время смут в Восточном Туркестане, находивших себе отголосок и в русских пределах». Как видно, не только выбор кандидатуры Валиханова, но и постановка перед ним очень сложных задач — все это целиком принадлежало знаменитому русскому ученому, который сумел отличить молодого казаха-офицера от окружающих по степени его «развития и талантливости».
Крайне рискованное путешествие Ч. Валиханова, продолжавшееся почти 11 месяцев, закончилось 12 апреля 1859 г., когда он прибыл в Верный. Утомительное путешествие подорвало его здоровье, однако в Омске Чокан продолжал напряженно работать над отчетом. В конце 1859 г. молодой ученый выехал в Петербург, куда он привез ряд ценнейших восточных рукописей, а также образцы горных пород, гербарий, нумизматическую коллекцию и т. д. Участники этой беспримерной экспедиции были награждены.
Результаты экспедиции Ч. Ч. Валиханова в Восточный Туркестан были высоко оценены в научных кругах России.
Особенно плодотворным в творческой биографии Валиханова был 1860-й — петербургский год его жизни. Для Чокана это было время напряженного труда: в печати появляются первые его публикации о путешествии в Восточный Туркестан, он выступает с сообщениями на заседаниях Географического общества, составляет в Генеральном штабе карту Малой Бухарин и долины озера Иссык-Куль, трудится в Азиатском департаменте министерства иностранных дел, посещает лекции в университете, пишет статьи о казахах и т. д. Кроме того, Валиханов заводит широкий круг знакомств среди передовых русских писателей и ученых. У него проявились глубокие интеллектуальные интересы к многообразным сторонам жизни столицы. В «Истории полувековой деятельности Русского географического общества (1845—1895)» есть замечание П. П. Семенова: «Изучив французский и немецкий языки, Валиханов приобрел замечательную эрудицию ко всему, что касалось Центральной Азии».
Вместе с тем неизменным оставался глубокий интерес Валиханова к вопросам истории народов Казахстана, Средней Азии и Сибири и их взаимоотношениям с Джунгарией и др. Об этом свидетельствуют многочисленные рукописные документы XVIII в., собранные казахским ученым, а также его выписки из архивов Омска и путевых записей путешественников. Особенно привлекали внимание Чокана сведения знаменитых европейских путешественников Плано Карпини, Асцелина, Рубрука, и др. Владея некоторыми европейскими языками, он читал их труды в оригинале.
Следует также отметить определенную направленность читательских интересов Валиханова. Так, знакомясь с материалами «Азиатского вестника» (1825, № 1 — 5), он особо отмечает «любопытную статью» «Новейшее описание Великой Бухарин», в «Записках Русского географического общества» изучает и реферирует статью К. Боде «О туркменских поколениях» и т. д.
Валиханов внимательно изучает политическую обстановку на Востоке, его интересует даже генеалогическое древо среднеазиатских и джунгарских правителей. Любопытно, что в древе о хонтайше Баторе упоминается имя Шуна, о котором в архиве востоковеда В. В. Григорьева обнаружена запись, принадлежащая, по-видимому, перу Валиханова. Вероятно, эта запись попала к Григорьеву во время его работы на посту председателя цензурного комитета, но, возможно, что ученый получил рукопись непосредственно от самого Валиханова, с которым был знаком лично.
О широте научных интересов Чокана можно судить и по его заметкам о картографических и географических трудах, посвященных Азии, в частности, к «Общему землеведению» К. Риттера. Прекрасно эрудированный и хорошо знавший Среднюю Азию и Казахстан, Валиханов критически оценивал труды известных европейских ученых А. Гумбольдта, К. Риттера, Клапрота и др.
Ч. Ч. Валиханова следует считать одним из тех, кто впервые в нашей стране положил основу топонимики. Так, в работе «Несколько маршрутов Потанина» он объясняет происхождение названия речки Атасу (легенда о слезах отца, потерявшего единственную дочь: ата — отец, су — вода (слезы) и горы Чекоман («Будь здоров»—«Чек, аман»,— произнесла девушка, проплывая мимо любимого, стоявшего на горе) и др.
Интенсивная работа в различных ведомствах Петербурга и его влажный климат вызвали обострение болезни. Тяжело больным Валиханов в 1861 г. вернулся в родные места, где продолжал заниматься самыми разнообразными вопросами, связанными с изучением казахской степи. Он готовит, например, свои записи по Кашгару для изданий Географического общества, собирает много казахских, киргизских сказок, эпических сказаний, песен, поговорок и пословиц, изучает казахские законы обычного права. Неистребимая жажда деятельности, несмотря на слабое здоровье («Здоровье мое все еще плохо, и доктора не позволяют теперь выехать в дорогу, поэтому я остаюсь до лета, до августа»), толкает Валиханова даже на попытки проведения метеорологических наблюдений, для чего в письме от 2 января 1862 г. он просит профессора А. Н. Бекетова похлопотать в обществе, чтобы ему выслали приборы.
Чокан, как известно, прожил недолгую, но яркую жизнь, полную исканий и творческого горения. Он внес крупный вклад в развитие отечественной географии, этнографии, востоковедения, тюркологии, истории, литературоведения. Это был по-настоящему даровитый и крупный ученый. Однако его таланту исследователя не суждено было полностью раскрыться не только из-за чрезвычайно короткой жизни, но и косности, зависти окружавших его людей и администрации края.
Научные труды Ч. Ч. Валиханова, как уже отмечалось, получили высокую оценку крупнейших русских и зарубежных ученых. О значении его работ писали П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. А. Аристов, И. В. Мушкетов (он упоминает, в частности, о коллекции горных пород, собранных Валихановым в Восточном Туркестане), Г. Е. Грум-Гржимайло, В. В. Бартольд, Ф. Р. Остен-Сакен, Н. М. Ядринцев, Л. С. Берг и др.
Здесь мы ограничимся приведением лишь некоторых отзывов, отослав интересующихся этим вопросом к Собранию сочинений Ч. Ч. Валиханова. Автору «Истории русской этнографии» (1892) А. Н. Пыпину Потанин писал неоднократно, подчеркивая роль Ч. Ч. Валиханова как ученого и исследователя Восточного Туркестана.
Н. И. Веселовский, первый издатель Собрания сочинений Валиханова (1904), писал: «Как блестящий метеор, промелькнул над нивой востоковедения... Чокан Чин-гисович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от него великих и важных откровений о судьбе тюркских народов».
Будучи офицером русской армии, Ч. Ч. Валиханов оставался верным сыном своего народа, полагая, что судьба его тесно связана с Россией. Ученый мечтал о культурном единении казахов и русских.
Значительную роль в формировании передовых взглядов Валиханова сыграло его непосредственное общение со многими виднейшими деятелями русской науки, литературы и культуры, в частности, многолетняя дружба с Ф. М. Достоевским (их знакомство состоялось в 1854 г. в Омске). Но прежде чем перейти к анализу их отношений и творческих взаимосвязей, важно остановиться на следующем моменте.
В научной литературе еще недостаточно уделено внимания деятельности Валиханова как писателя, критика и переводчика. В самом деле, его рецензия на третью часть известной книги А. И. Левшина поражает читателя четкостью и определенностью позиции молодого критика. Валиханов в ней показал себя знатоком многих вопросов, поднятых маститым автором. Так, он замечает, что «Левшин слишком увлекся невежеством описываемого народа» и при этом допустил путаницу между религией и суеверием. Валиханов обращает внимание на гостеприимство, сострадательность казахского народа и считает, что это достойно подражания и просвещенного европейца.
В своей книге Левшин допустил ряд неточностей при переводе казахских реалий. По этому поводу Валиханов высказал интересные мысли и замечания. Например, он отметил неверный перевод слова «акбура», что означает «белый верблюд», а не «белый волк», как у Левшина. При этом рецензент спокойно и по-деловому объясняет причину ошибки.
Заслуживают внимания и неологизмы в замечаниях Валиханова. Вступая в полемику с Левшиным, он отмечал, что казахи «не признают шайтана за божество». Вот почему они, даже «бросая объедки и кости... произносят бисмилла», то есть «во имя бога». Эту «процедуру» казахи проделывают, будучи уверенными, что «бисмил-лованные» кости не доступны злому и нечистому духу». Неологизм «бисмиллованные» интересен и в другом отношении: свидетельствует о простом, лингвистическом, даже «святотатственном» отношении молодого Валиханова к словам священной книги мусульман. Не случайно, что впоследствии в одном из своих писем он писал о существовавшем в казахской степи мнении о нем, как о неверующем.
О несомненном литературном даровании Валиханова свидетельствуют его этюды под пародийным названием «Трактация о романах вообще, о романах, написанных е. п. самим (Дневниковые записи 27 февраля 1856)», в которых он с тонкой иронией высмеивает хвастовство генерала Гасфорта. Последний в передаче Валиханова напоминает печально знаменитого Хлестакова. Не случайно генерал ненавидит Гоголя, считая его очередным литературным «идолом», а его «Ревизора»—полным бесконечной лжи. Здесь поведение Гасфорта вполне «объяснимо»: он видел в гоголевском герое своего двойника. В самом деле, как по-хлестаковски превозносил себя Гасфорт, говоря: «Конечно, ты, жена, удивишься, когда узнаешь, что я, да я — твой муж, писал тоже романы». Этот новоявленный «романист» высказывает безапелляционное и грубейшее суждение о Гоголе («вот еще один идол — Гоголь») и о Жорж Занд («пресловутая Жорж Занд», «вздорная баба»). К счастью, главным призванием Гасфорта, по его же выражению, оказалось «быть генералом». Вместе с тем верхом хвастовства «романического» губернатора является его утверждение: «Сам я писал вроде Диккенса».