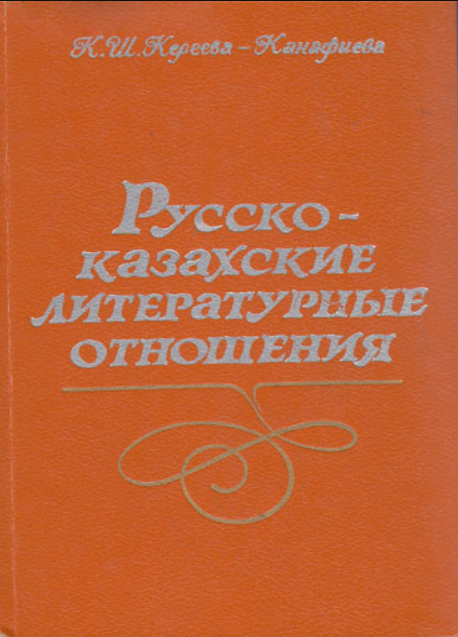Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 13
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Многие страницы романа имеют этнографическое значение: автор подробно описывает устройство казахской юрты, внутреннее убранство ее, приемы угощения у казахов. Стремоухов уделил много внимания казахской женщине. Если вообще в мусульманском мире «женщины не пользуются никакими правами и преимуществом: на них смотрят как на неизбежную принадлежность, собственность каждого семьянина», то у казахов, по мнению автора, женщины, «напротив, совершенно свободны и ни в чем не ограничены, они равноправны с мужчинами». Причину этого писатель видел в том, что хотя казахи и «считаются мусульманами, на самом же деле они не придерживаются никакого вероисповедания и соблюдают только те правила, которые освящены их адатом». Это мнение Стремоухова, по сути, повторяет широко быто-вавшиц в русской литературе взгляд на казахов, как на «плохих мусульман», которые не ограничивали свои действия и поведение строгими религиозными догмами. Вместе с тем Стремоухов склонен был видеть высокую степень свободы казахской женщины... во внешнем сходстве ее платья с одеждой мужчины, хотя женская одежда отличалась как шириной, так и длиной. Головной убор казахских женщин по форме напоминал «кичку русских женщин». Но казашки «для большого парада» украшали его «всевозможными побрякушками и ленточками».
Свои наблюдения автор подтверждает некоторыми эпизодами. Когда русские гости приехали в аул Барака, их встретила супруга хозяина. Бойко, Даже дерзко смотрели ее большие, черные глаза, обрамленные дугообразными бровями. Лицо ее было бы красиво, если бы не сильно выдающиеся скулы и глубокая впадина на лбу.
Без всякой застенчивости подошла она к Гуреневу, протянула руку и весело приветствовала. Ее улыбка обнажила два ряда ровных ослепительной белизны зубов. Выходя из юрты, она бросила лукавый и кокетливый взгляд на молодого русского...
В ауле Гуренев познакомился с молодым человеком, по имени Абдулла. Выяснилось, что подобные имена казахи дают всем беглым из России, которые скрывались в казахских степях. Абдулла как будто обучался в Казани, долго жил между казахами и всевозможным обманом сумел выдать себя за мудреца. Казахи, проявив доверчивость, называли его не иначе, как Мульдеке. Он оказывал на них определенное влияние. Этому способствовало следующее обстоятельство. Между казахами, писал автор, весьма распространен обычай: во время праздника, пиршества «или распевать песни, или рассказывать басни, сказки и анекдоты, или же загадывать и разгадывать загадки». Если кто-то не сумеет принять участия в такой беседе остроумным словом, то это считалось «великим срамом». Такой человек падал «во мнении общества». Абдулла же приобрел известность в степи как чрезвычайно находчивый и изворотливый человек. По мнению Стремоухова, люди типа Абдуллы, выдавая себя за мудрецов, на самом деле были «ловкими обманщиками, просто неучами», которые пользовались невежеством населения и выманивали у людей добро. Опасность заключалась в громадном влиянии их авторитета на кочевников. Они побуждали население к противозаконным действиям, прикрываясь именем аллаха. Хитрый и плутоватый Абдулла вступает в заговор с погонщиком Давлубаем, чтобы через связного Аблая предупредить предводителя барантачей Джан-Ходжу о прохождении каравана через Мугоджары.
Следует здесь заметить, что Стремоухов очень вольно пользуется именами некоторых исторических лиц казахского народа, называя ими своих героев. Так, известны и султан Барак, и хан Аблай, и батыр Джан-Ходжа.
На долгом пути в Бухару караван делает многочисленные остановки в казахских аулах, жители которых приглашают караванщиков в гости или просят принять участие в похоронах или свадьбах. Автор дает подробные описания этих обрядов. Так, с большим радушием и сердечностью участники свадьбы встречают Гуренева. В его честь был «зарезан молодой баран», устроены скачки (байга).
В пути караванщики повстречали молодого казаха Мастана, который был «оригинально красив» и строен, что подчеркивалось и нарядной одеждой — красным халатом, красными кожаными «чимбарами», красной тюбетейкой. Мастан разыскивал барантачей, которые проникли в караван Гуренева, чтобы предать его в удобном месте. Опасаясь разоблачения, Абдулла решил бежать. Вскоре караван ушел, оставив Абдуллу. Но последний вынужден был затем догонять его, боясь потерять добро.
Когда караван достиг окрестностей Эмбы, русский член каравана Шигров поехал к казакам, чтобы предупредить их о возможном нападении барантачей. А они между тем собрались в одной из юрт Чиклинского аула, где вели тайную беседу. Почетное место в юрте занимал Джан-Ходжа, старшина аула. Он имел рыжеватые с проседью усы и бороду, густые нависшие брови закрывали его глаза. Широкий морщинистый лоб и сильно приплюснутый нос отчетливо выделялись на плоском лице. Толстая мускулистая шея и мясистые широкие плечи выказывали необыкновенную силу. Автор считает Джан-Ходжу незаурядной личностью. Другие его сообщники в основном охарактеризованы как люди, «на чертах каждого из которых отпечатались звериная жестокость и низкое лукавство». Исключение, казалось бы, составлял шестой собеседник, внешне добродушный, кроткий и услужливый. Однако все это было фальшивым притворством, которое и составляло главную отличительную черту характера Аим-Ходжи, агента хивинского хана. Коварный Аим-Ходжа требовал исполнения новых поручений своего повелителя.
В одном из ущелий Мугоджар произошел бой между барантачами и караванщиками, во время которого были убиты Джан-Ходжа и другие его сообщники. На стороне русских в бою активно участвовал молодой казах Мастан, который затем возвратился домой. Он был счастлив, что Гуренев выразил ему свои чувства дружбы. Русские говорили, что «и между киргизами есть хорошие люди, любой русский позавидовал бы этому молодцу!»
Из Казалинска караван направился в Бухару через песчаные пустыни. В пути люди пережили страшную бурю, но, преодолев трудности, все-таки вступили в бухарские пределы. Своим спасением они были обязаны караван-баши Бараку, который на слова благодарности русских ответил, «простодушно улыбаясь»: «Джаксы» (хорошо.— К. К.).
Почти одновременно с караваном добрался до Бухары и Абдулла, сумевший ввести в заблуждение жителей казахского аула. Они-то и помогли ему добраться до Бухары. Но Абдулла одержим желанием отомстить русским.
Караван-баши через неделю решил вернуться домой, а Гуренев остается в Бухаре. Он внимательно присматривается к жизни бухарцев, заводит с ними широкое знакомство, усваивает язык местных жителей, но обо всем этом рассказывает уже вторая книга трилогии Н. П. Стремоухова —«В Бухаре».
Таким образом, в первой книге своего романа писатель стремился создать убедительные типы казахов, но следует признать, что эту задачу автор решить не сумел. Его Серой — люди нераскрытого внутреннего мира. Очевидно, Стремоухов полагал, что подробные описания размеров «чимбаров» и окраски халатов возместят отсутствие психологического анализа. Все персонажи даны в статике. Например, караван-баши Барак, занимающий положительной полюс в романе, добродушно улыбался и когда впервые знакомился с русскими, и когда караван под его руководством благополучно миновал все опасности и прибыл на конечный пункт, то есть читатель знает об этом герое столько же в финале романа, сколько и на первых его страницах. Аналогичное можно сказать и о других персонажах произведения. Они занимают резко полярные позиции, и читателю не приходится предугадывать, кто из них как поступит. 7
Однако, несмотря на слабые свои стороны, роман занял определенное место в ряду художественных произведений прошлого, посвященных казахской тематике.
Немало познавательного для русского читателя того времени было в правдивых зарисовках Стремоуховым картин повседневной жизни казахов, их обычаев. Привлекает внимание в романе пейзаж, на фоне которого происходят основные события. Описывая местность, по которой проходил караван, автор подчеркивает, что и налево, и направо, и впереди, и сзади — везде и всюду виднелась одна трава, что придавало степи однообразный и дикий вид. Только встречались невзрачный, кривой саксаул, колючка пыльная, да по берегам озер и речек — камыши и карагачи. Говоря о том, что путь каравана пролегал и через глубокие пески и солончаки, автор замечает, что «пейзажу они особенной прелести не придают». Но картины природы менялись, когда путники шли по берегам рек, через всхолмленную местность, когда временами им попадались утесы всевозможных форм и оттенков.
В последней книге трилогии Стремоухов описывает, как после многих злоключений Гуренев возвращается, наконец, на родину. На обратном пути караван проходит через густонаселенные среднеазиатские города. Гуренев обращает внимание на успехи русского управления краем: он видит форты, из которых впоследствии выросли крупные населенные пункты и города в казахских степях (из форта № 1 — Казалинск, из форта № 2 — Кармакчи, из форта Перовский — Ак-Мечеть — Кзыл-Орда).
В рассказе писателя «Чуть-чуть не попался» (1892) старый русский полковник, от лица которого ведется повествование, весьма высоко оценивает казахов и киргизов, подчеркивая их добродушие, простоту, кротость, откровенность, твердость в слове и безграничную доверчивость. Он особенно выделяет у них святое соблюдение «законов» гостеприимства и дружбы. Полковник, много лет проживший среди кочевников, знавший до мельчайших тонкостей их язык, нравы, обычаи и даже попавший в руки барантачей, «с необыкновенным жаром» защищал своих «любимцев» от нападок автора, «не без хитрости» бранившего кочевников, чтобы «только подзадорить его и навести на излюбленную тему». Действительно, полковник поведал ему об одном из интересных эпизодов, связанном с его поездкой в аул, родоправитель которого коварством и обманом хотел предать русского офицера в руки барантачей. Кстати, этого же добивался... и начальник края, которому «не приглянулась» «физиономия» героя рассказа. Но из всех трудных испытаний герой вышел живым и невредимым —и здесь главная заслуга принадлежит джигиту, который самоотверженно спас его в самый критический момент.
В рассказе довольно отчетливо раскрывается та мысль, что познать душу народа можно, только пожив среди него, что за грубою внешностью нередко скрывается доброе сердце.
В 1897 г. увидел свет роман Н. Уралова «На верблюдах». Во введении автор отмечал, что в молодости он много поездил. И хотя с тех пор прошло «каких-то» двадцать лет, время уже кажется «невозвратным» и «мимолетным».
Жалея об ушедших годах, автор пишет, что тогда он был «независим» и смотрел на мир сквозь «розовые стекла». А теперь? «Пустое урчание в желудке порождает смертельный страх, а встреча с «его превосходительством приостанавливает даже биение сердца, которое прячется в эту минуту если не совсем в пятки, то, наверное, очень неподалеку от них». Рассказывая о «пошлом мыкании» по канцеляриям, затхлом воздухе архивов, рапортах, докладах, отношениях и донесениях, он вспоминает друзей-казахов, этих наивно добродушных, скуластых детей природы. Их-то автор и противопоставляет «геморроидальным» сослуживцам-чиновникам. Вместо прежней, независимой, полной поэзии жизни на лоне природы теперь жалкое прозябание человека, находящего приют под крышей дымного и душного ресторана и кафе-шантана.
Причину столь разительных перемен автор видел в цивилизации, которая стремительно шагнула вперед и разбудила «дремавшую Русь». Поднялся «Северный Колосс» и движимый мощной силой прогресса быстро принялся догонять Европу... Движение Колосса на Восток сопровождалось падением «чалмоносных» голов хивинцев. Вскоре на громадной территории степей «забелелся» двуглавый орел под минаретами ханских ставок. Продвижение русских в Центральную Азию продолжалось.
Благотворный климат и сокровища среднеазиатских земель привлекли к себе внимание предприимчивых людей. С насиженных мест двинулись смельчаки за снежный хребет Алатау, а за ними — промышленники, капиталисты. Железные дороги опоясали край, где два десятилетия назад рыскали тигры, а в болотах — кабаны. Кочевник видит «шайтан» (черт) — телегу, и ему жалко минувшее, «доброе старое время». Такого кочевника автор сравнивает с завзятым русским крепостником, который также жалел о «блаженном» для него, но позорном для народа времени барщины (54).
Повествование ведется от первого лица, устами которого часто говорит сам автор. Зубарев — главный герой произведения — лет 20 назад служил у купца Огнева. Ему он обязан был проводить закупку и отправку в Сибирь «некоторых жировых товаров», а в Нижний Новгород— хлопка. Отмечается, что до начала 60-х гг. XIX в. «хлопчатая бумага» доставлялась в Россию преимущественно из Америки. Бухархкий хлопок не имел почти сбыта на рынках России. Его продавали по четыре рубля за пуд, хотя себестоимость хлопка была пять рублей. Но русские купцы платили за бухарский хлопок не деньгами. Они широко практиковали товарообмен, в результате которого хлопок обходился им еще дешевле. Но с 1862 г. ввоз хлопка из Америки прекратился, так как там возникла междоусобная война. Цена на бухарский хлопок резко подскочила — до 22 рублей за пуд.
В 1872 г. Зубарев по торговым делам п бывал в Петропавловске и Акмолинске. Он сопроводи ал караваны с хлопком до Орска через Тургайские степи на Актау через Кокчетау. В своих торговых операциях русские купцы пользовались верблюдами, избегая забот по налаживанию почтового тракта. Верблюд был не только вьючным животным, но и давал питательное молоко и шерсть, идущую на выделку особой ткани (армячины). Основная же ценность верблюда для купцов была связана с его качеством «седло-зверь» или «вьюк-человек», ибо «идея верблюда» была заложена в его горбах, шее и ступне. Он рисуется как «живое, неутомимо движущееся седло на четырех ногах». Только безграничная пустыня могла породить этого «работника, не знающего устали" (56).
Автор отмечает также «что-то древнеегипетское в умном и сурово-равнодушном взгляде верблюжьего лица. Кажется, будто он все понимает и будто презирает вас. Кажется, что он сознает свою силу, свою пользу, свою независимость, сознает, что исполняет свой священный долг. Оттого, может быть, так презрителен его взгляд, так величественны и неторопливы его движения. Вы видите не невольника, а фанатика работы... Как горбы его просят вьюка, так шея его просит ярма... Ярмом согнутая шея не препятствует глазам смотреть прямо и свободно вперед, ушам слышать, длинным ноздрям — обонять. Верблюд не поглощен весь своею работою, не подавлен своей ношею; на ходу он озирается с достоинством независимости и с философским спокойствием наблюдает суетный мир, обративший его в машину для перевозки» (56).
Таков «гимн» верблюду.
Караван этих животных сопровождают возчики-казахи («лаучи»), которые выходят партиями в несколько десятков человек. Во главе идет караван-баши.
Сбор каравана представлял известную трудность. Не случайно рассказчик вспоминал, как он, «высунув язык, бегал по кишлакам и аулам, чтобы собрать необходимое количество верблюдов». Владельцы последних «тянули», ссылались на различные причины (говорили о разбое какого-то Алимкула и др.), чтобы выторговать «лишний рубль».
Среди спутников героя был Иван Левашов, известный на сотни верст в степи под именем Иван-бая. Это седовласый старик, высокий, широкоплечий, с большими красивыми глазами. Носил он казахский халат и малахай, разговаривал на казахском языке, поэтому его многие принимали «за чистокровного номада». Он не пил, не клал табак за губы.
В составе каравана был и Тележников, выходец из Великого Устюга. В Ташкенте, где он служил приказчиком, накопил деньги и теперь возвращался домой. Скопидом и кулак, он боялся за судьбу своих денег. Торгуясь, Тележников «распинался, вилял всей фигурой и торговался так отчаянно, словно он отстаивал собственную жизнь».
Караван-баши стал казах Нысанбай Кебеков, олицетворявший собой тип «настоящего степняка»: он имел длинную, редкую, седую бороду, обрамлявшую скуластое лицо. Его узкие «наискось разрезанные» глаза светились природным умом, и от всей фигуры «веяло» почтенностью. Нысанбай довольно хорошо говорил по-русски. Он возглавлял караваны «почти во все стороны» и даже не раз «заглядывал» в Нижний Новгород. Автор считал его «тертым калачом».
В 1872 г. караван вышел из Ташкента. Дано описание этого города, его базара, первого ночлега и характера беседы в пустыне. У горы Чингиз герой услышал легенду о том, будто бы в этих местах охотился Чингиз-хан и захотел пить. Только он об этом подумал, как перед ним вдруг появилась чаша.
Коснувшись особенностей экономической жизни казахов, автор сообщил, что они занимаются скотоводством, а также охотой и рыбной ловлей («Ежегодно вывозят на сто тысяч рублей рыб»). Многих казахов прельщал и соляной промысел, развитию которого способствовала сеть степных самосадочных озер. Хозяева верблюжьих стад занимались извозом, получая также большие барыши (70).
Уралов заметил, что если раньше земледельцами были в основном байгуши, «имевшие мало скота», то с 60-х годов за обработку земли взялись и богатые кочевники. Однако земледелие, требовавшее постоянного орошения и новых орудий, при их отсутствии превращалось в «египетский труд». Автор считал, что казахи «по своим коммерческим способностям... отстают от бухарцев».
Много внимания Н. Уралов уделил домашнему быту казахов, отметив различия в одежде, питании, быту бедных и богатых. Писатель подчеркнул также ведущую роль женщины в хозяйстве кочевника. Во время охоты герой романа услышал от казаха Байтака песню, содержание которой переведено им так:
На берегах Дарьи летом гулял белый конь;
Хозяин заметил его горячий норов и крепкую стать
И пустил в бег на далекое расстояние.
При беге у коня показывалась кровавая пена,—
Так сильно бежал он,—
А когда узнавал на бегу своего хозяина,
То становился еще прытче —
Совсем стрелой летел белый конь!
Хотя Дарья река глубокая, и покрывала
Водою всего верблюда, однако белый конь
Пробегал через реку только по колено в воде.
Его ноги не скользили по горам и скалам,
И он догонял даже диких коз.
Происходил белый конь из табуна Темучина
И был предметом удивления всех телохранителей великого хана.
Автор устами своего героя отмечал, что напев этой песни был «унылый, тихий, монотонный, но приятный, отзывающийся в душе чем-то близким сердцу».
В течение длительного путешествия люди пережили немало мучительных минут из-за жары, песка, многочисленных змей и т. д. Глубокое впечатление на Зубарева произвела «мертвая степь», заснувшая вековым сном. Облик Кара-Кумов, через которые проходил караван, был совершенно иной, чем пустыни в районе Сыр-Дарьи, где, по данным Бабура, еще в XIV в. были цветущие многолюдные города, обширные болотистые и камышовые заросли, густые леса.
Из беседы с караван-баши Зубарев узнал новые подробности из жизни казахов. «Повсюду» он отмечал «неприкрытую бедность», везде — в Аулие-Ате и у побережья Аральского моря — видел соплеменников караванбаши, оборванных, полуголодных. С законным основанием писатель выразил сомнение: «Где же эти стада баранов, у кого косяки лошадей, о которых приходилось нередко слышать? Не выдумка ли уж эти рассказы про «привольное житье» казахов?
В беседе герой и Нысанбай Кебеков коснулись извечной темы — любви. Караван-баши говорил, что у молодых людей всех народов сердца бьются одинаково, но у казахов даже «сильнее любят». Далее на основании своих личных наблюдений в Нижнем Новгороде он утверждал об испорченных нравах, о покупке женщин. Когда же Зубарев напомнил ему о калыме, Нысанбай заявил, что это «народный обычай», и рассказал «былину» о женитьбе одного батыра, который отличался не только физической силой, смелостью, храбростью, но умом и честностью. Прежде батыры имели громадное влияние в народе, писал Уралов, так как свои силы как физические, так и духовные они тратили на пользу народа, были прямолинейны и безупречны, помогали торжеству правды, справедливости. Никто не мог упрекнуть настоящего батыра в том, что он покривил душой, дал необоснованно разгуляться своей удали только из пустого тщеславия (75—76).
Далее Кебеков поведал о подвигах батыра Сергале. Эту быль он слышал от своего отца. Батыр побывал у Абыза — предсказателя, который вещал, что он будет любим, но умрет поруганный и родичами и врагами. Прошло много лет. Батыр сделался предводителем молодцов. Его успехам радовались и бедные и баи. Последние всегда получали крупную долю в добыче. Вскоре батыр встретил девушку, которую полюбил. Но он попадает в ловушку, и с ним жестоко расправляются враги.
Уралов повествует и о необычной судьбе своего героя Зубарева, который женился на красивой казахской девушке. Для этого он даже согласился стать мусульманином. Однако через три года жену похитили разбойники, оставив маленькую дочь Райхан, с которой отец ехал теперь в Петербург. Зубарев «казнил» себя за то, что при «роковом стечении обстоятельств столь легкомысленно» согласился «переменить веру отцов» (61). Он утверждал, что никогда не переставал быть русским, и обещал начать новую жизнь. Спустя двенадцать лет автор узнал, что Зубарев живет в Петербурге «под чужим именем, а дочь Райхан отдал учиться в столице на курсы».
Следует отметить, что Уралов испытал значительное влияние Н. Н. Каразина. В его книге есть и «степные разбойники», и «господа-ташкентцы» и любовь между русским и «туземкой» и т. д. Сюжеты его произведений «завязывались» по-каразински. Не случайно Алекторов считал, что Н. Уралов пытался «подделаться под тон и манеру писать» казахские рассказы, повести и романы, как Каразин.
Тем не менее произведения Н. Уралова на казахскую тему примечательны тем, что их автор с пониманием писал о казахской бедноте, отмечая ее тяжелую жизнь, интересовался поэзией народа, его бытовыми особенностями и хозяйственным укладом.
Автор романа «В новом краю» Н. Ильин был одним из прогрессивных деятелей, составлявших так называемый «хомутовский кружок». Многолетняя деятельность в чиновничьем аппарате по управлению Туркестанским краем позволила ему собрать богатый фактический материал, который лег в основу разоблачительного романа. В нем ярко и правдиво воссозданы образы хищных «господ-ташкентцев», наводнивших новый край в поисках удачи и славы.
Вместе с тем в образе положительного героя, честного чиновника Алексея Павловича Силина переданы некоторые черты самого автора. Силин в студенческие годы из-за участия в антиправительственной организации был вынужден бежать за границу.
Вернувшись в Россию, он поселился в небольшом отцовском имении и проводил свое время среди крестьян.
После присоединения Туркестанского края к России Силин приезжает в Ташкент, где получает назначение в Коканд. Там он с увлечением трудится в комиссии по организации податной системы, надеясь этим принести определенную пользу коренному населению. К составлению докладной записки он привлекает некоторых лиц из местных жителей. На этой почве у Силина возникает конфликт с чиновниками, усмотревшими в нем деятеля либерального толка. Это вынуждает- его переехать в Ташкент.
По описанию автора, в начале 1875 г. «русская часть города далеко не походила на тот живописный город, застроенный новыми изящными постройками и утонувший в зелени, каким представляется в настоящее время»; еще не были проложены арыки, несущие освежающую прохладу. Но в городе уже появились царские чиновники, которые, постепенно приспосабливаясь к местным условиям, сравнительно легко удовлетворялись услугами «туземных» мастеров: столяров, плотников и др. Стали строиться невзрачные жилые и служебные здания, но трущобы оставались.
На новом месте Силин занялся адвокатской практикой. Однако и здесь герой оказался «крамольным» в глазах местных воротил, весьма обеспокоенных перспективой разоблачения их преступной деятельности. Им удается по ложному доносу посадить Силина в тюрьму. Но после вмешательства местного судебного авторитета Степанова он получает свободу и уезжает в Россию.