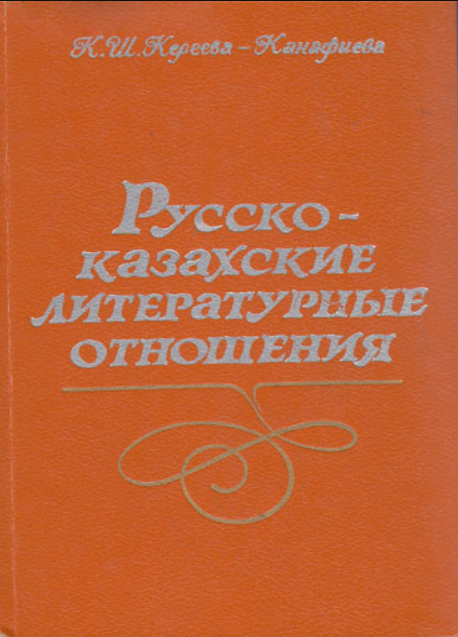Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 17
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Начало интенсивной литературной деятельности Д. Д. Иванова совпадает с годами его учебы в Петербургском горном институте. В 70-е годы он активно сотрудничал в таких изданиях, как «Военный сборник», «Русский инвалид», «Неделя», «Азиатский вестник», «Слово», и других органах печати.
В своем творчестве Д. Л. Иванов (его литературные псевдонимы «Прохорыч, «Дм. Львович» и др.) был последовательным сторонником идей революционных демократов. Находясь по существу в длительной ссылке в Туркестане, Иванов не изменил идеалам ранней молодости.
О деятельности Д. Л. Иванова как ученого, исследователя существует немалая литература. Однако в ней в основном речь идет о специальных его трудах по геологии, географии, этнографии и т. д. Таковы статьи
А. И. Хлапонина, А. Н. Криштафовича (1925), Б. В. Лунина (1962), A. С. Уклонского (1966) и др.
Вместе с тем в русской литературе почти не рассмотрена деятельность Дмитрия Львовича Иванова как писателя. Между тем литературное наследие его представляет определенный интерес. Проучившись некоторое время на филологическом факультете Московского университета, Д. Л. Иванов в течение всей своей долгой жизни сохранил верность искусству слова. Его многочисленные очерки и рассказы, большинство которых посвящено казахской тематике, представляют серьезный вклад в разработку проблемы русско-казахских литературных отношений. В большой серии путевых очерков Д. Л. Иванов создал запоминающиеся портреты представителей казахского народа («Рыбаки»). Отдельные его очерки привлекают внимание своей публицистичностью, острой постановкой больших социальных вопросов («На утином перелете»). Некоторые произведения Д. Л. Иванова носят характер живописных этюдов («Степные призраки»).
Выступая в жанре короткого рассказа или путевого очерка, Д. Л. Иванов стремился к созданию произведений глубокого идейного содержания. Все его произведения на казахскую тему объединены одной общей идеей гуманизма и прогресса.
Очерки и рассказы Д. Л. Иванова в целом воссоздают многие стороны жизни казахского народа в дореволюционный период. В них нет ложного любования экзотикой кочевой жизни, а, напротив, по мнению автора, она стала серьезным препятствием на пути распространения земледельческой культуры среди казахов. Кочевая жизнь уводила их от широкой дороги цивилизации. Писатель знакомил русских читателей не только с этнографическими особенностями народа, но пытался раскрыть его духовный мир, создавая яркие образы.
Художественные произведения Д. Л. Иванова, написанные с позиций гуманизма и народности, содействовали формированию в русском обществе реалистического взгляда на казахский народ, который способен, по глубокому убеждению писателя, к восприятию современной культуры, к земледелию с вытекающим отсюда активным стремлением к новому этапу жизни — жизни в общем русле развития передового Человечества. Благодаря таким прогрессивным идеям, воплощенным в серии рассказов, очерков, журнальных статей на казахскую тему, Иванов оставил заметный след в русской художественной литературе и журналистике.
Из этой серии Д. Л. Иванова заслуживают особого внимания следующие произведения: «Солдатское житье. Очерки из Туркестанской жизни» (Спб., 1875 г.); «Солдатские рассказы о Туркестанском крае» (Спб., 1875 г.); «Киргизская степь. Рассказы солдата» («Досуг и дело», 1875 г.); «В горах (Из Туркестанской походной жизни») (Спб., 1876 г.); «Под Самаркандом» (1876 г.); «Из войны на далеком Востоке. Под Самаркандом. Рассказ новичка» (Спб., 1877 г.); «Кара-Ибан. Среди киргизов» (1878 г.); «Поездка в Алатау в 1879 году» (Ташкент, (1880 г.); «По поводу некоторых Туркестанских древностей» (1884 г.); «Зайка-играйка. Глазун-сова и другие рассказы няни Никифоровны» (Спб., 1911 г.); «Дошкольное рисование» (Спб., 1912 г.); «По киргизской степи (путевые очерки)» (Пгр., 1914 г.) и др.
Прежде чем перейти к анализу этих произведений, следует указать, что писатель правильно отличал казахов от киргизов, хотя в своих статьях, очерках и рассказах он пользовался общеупотребительным в русской дореволюционной печати понятием «киргизы» вместо «казахи». Об этом свидетельствует, в частности, доклад ученого на тему «Путешествие на Памир», прочитанный на общем собрании Русского географического общества 11 апреля 1884 г. В докладе, где была дана справка о составе экспедиции, о трудностях ее, сказано, что Памир населяют представители двух народностей. Одна из них «коренная памирская, монгольского племени — киргизы». Далее Д. Л. Иванов уточняет: «Это те киргизы, которые сами себя называют этим именем и которых мы, в отличие от киргиз-кайсаков, или казахов, называем кара-киргизами» (28).
Примечательно также, что Д. Л. Иванов, создавая образы казахов, записывая песни и легенды народа, изучая обычаи и нравы кочевников, всегда пользовался своими непосредственными наблюдениями. Конечно, огромное значение имело прекрасное знание казахского языка. Только глубоким знанием его можно объяснить эмоционально насыщенные описания сцен исполнения казахских песен в ряде очерков и рассказов. В этой же связи необходимо отметить факт введения Д. Л. Ивановым в русскую литературу многих казахских терминов, понятий, транскрипция которых очень близка к оригиналу. А ведь в то время общепринятого алфавита казахского языка на основе графики русского языка по существу не было, если не считать попыток отдельных просветителей и деятелей русской культуры к созданию основ удобного алфавита для казахов.
В 1875 г. в виде отдельной книги вышли очерки Д. Л. Иванова «Солдатское житье». Они печатались в течение предыдущих трех лет на страницах «Военного сборника», а также «Туркестанского сборника» (1873 — 1875). В основу очерков положены действительные события, участником которых был автор.
В очерке «На передовой линии» впервые отмечен факт участия казахской молодежи («джигитов») в походах русских войск по Средней Азии. Конные казахи, по мнению автора, составляли «род особой... команды». В очерке положительно характеризуются казахи и их роль в войсках.
Описанию однообразной, унылой жизни «захолустника» в степи посвящен одноименный очерк. И лишь изредка это однообразие нарушалось неожиданным присутствием на войсковых учениях казахов, которые пробирались верхом тихим шагом «в почтительном отдалении». «В меховых малахаях и войлочных белых чапа-нах» они, остановившись вдали, молча смотрели на происходящее.
В другом очерке дано описание сцены охоты, во время которой мимо русских офицеров проходит верблюд. Между его высокими горбами виднелись две черные головенки. Эти «крошечные человечки», не более 4—5 лет, были «пастухами»: они «повелительно покрикивали на подвластное им стадо». Д. Л. Иванов создал запоминающийся образ «бирюка»-охотника, сохранившего свои лучшие человеческие качества. Речь идет об офицере Шумове, про которого даже сложили анекдот: «Придет с охоты — его под арест, отсидит — на охоту; явился — под арест, выпустили — опять на охоту и т. д.»
Шумов сосредоточил все свои интересы на охоте, потому что не мог жить без движения, без перемен. Если его мало-помалу забывали в захолустье, то в степи у казахов имя Шумова-туря стало популярным, наконец, синонимом хорошего человека, молодца, друга.
Д. Л. Иванов в следующих строках характеризует свое первое впечатление от казахской песни, услышанной в одной из юрт: «Бог знает, были ли в ней слова, вероятно, были, но их разобрать было нельзя. Какие-то высокие, тонкие протяжные звуки переливались, дрожали, летели куда-то далеко, точно вся степь укладывалась в эту песню и уносилась далеко, далеко». Солдат Долин, пытавшийся «подтягивать» певцу, очень плохо «попадал» в тон мотива казахской импровизации. Это, по-видимому, одно из самых первых впечатлений Д. Л. Иванова о казахской песне. В последующих произведениях он будет уже описывать и точное содержание и эмоциональное воздействие песни на окружающих.
В своих размышлениях автор отмечал, что «и степь, пустыня играли тоже немаловажную роль в истории умственного и нравственного развития народов. В ней явился первый астроном и математик, сколько поэтов вырастила она... В ней, перед лицом этой необъятной пустоты, под этим чистым и высоким небом отыскивал человек в своей душе такие уголки, какие не мог видеть раньше, среди мелочей и суровостей другой обстановки. Сюда уходил он сосредоточиться, взглянуть широкими глазами на нравственный мир человека и здесь — в этой пустынной степи он задумался, замечтался».
Таким образом, в самых ранних своих произведениях на казахскую тему писатель пытался осмыслить и понять корни поэтической души народа.
В очерках Д. Л. Иванов обращает внимание читателя на два контрастных портрета: бия и бедного казаха. «На рослом, богатом еивом коне сидит важно толстый, увесистый бий. Он в цветастом полушелковом халате, в широчайших вышитых узорами желтых кожаных штанах — и это одеяние делает «пузатую фигурку» бия еще более выразительной... «Востроносые сапоги едва выглядывают из-под широких чембар (шалбар.— К. К.) своими кончиками с ремешковыми язычками. Огромный малахай опушен лисой. Лицо заплыло жиром, глаза совсем потонули за толстыми веками, подстриженные усы и редкая бородка подернулись сильной проседью» (136).
Этот портрет колоритен и выразителен. Он резко контрастирует другому — портрету бедного казаха. «На шершавой, пегой широкогрудой лошадке, на деревянном арчаке сидел приземистый молодой малый. Рыжий суконный чапан (шапан.— К. К.), надетый неуклюже на широчайшие плечи, открывал до пояса совершенно голую мускулистую грудь. Грязные, порванные, стоящие колом бараньи штаны, в которые был заправлен, по общему обыкновению, чапан, делали ноги несоответственно толстыми». В руках он держал поводья верблюда, на котором восседала женщина. Рисуя так прекрасно внешние данные людей, автор не скрывает, что его симпатии на стороне простого труженика.
В очерке «По степям» Д. Л. Иванов предупреждал: «Не должно думать, что кумы (пески.— К. К.) представляют из себя совершенно бесплодные пустыни, где не может быть никакой жизни». Напротив, писал он, казахи весной и зимой постоянно кочуют в этих степях со своими стадами, где находят богатейший подножный корм, а зимой стада легче могут откапывать снег, так как в песчаных степях он не бывает глубок.
На страницах «Голоса» (1875, № 11) и «Туркестанского сборника» (1876) появилась рецензия на очерки «Солдатское житье» Д. Л. Иванова. Рецензент отмечал, что они являются плодом шестилетних наблюдений автора. Излагая краткое содержание «Очерков», рецензент заметил, что туркестанская жизнь нарисована пером «очевидно, неопытным, но притягательным».
Сравнивая «живые и бойкие» рассказы Каразина с очерками Иванова, критик отметил, что особенный интерес в последних «представляет фактическая сторона, из которой мы действительно знакомимся с «Солдатским житьем» и во время стоянки — «На передовой линии», «В захолустьи», «На бойком месте»; и во время похода — «Долиной», «По степям»; и «В бою», «Штурм». В этих семи картинах (очерках), писал он, представлена вся жизнь солдата в Туркестане (32).
Между тем рецензент не заметил, что уже в ранних произведениях Д. Л. Иванова, в частности, в очерках «Солдатское житье» содержатся интересные наблюдения молодого автора над самобытной жизнью казахов. Уже в этих произведениях он открыто выражает свои симпатии представителям казахского народа. Иванов детально и тщательно выписывает новые для него черты в нравах, обычаях, быту казахов. В этом, несомненно, заключается высокая ценность очерков, хотя и написанных еще неопытным пером.
На «Солдатское житье» Иванова появилась также и положительная рецензия в журнале «Природа и охота» (1876). Автор статьи «Туркестанские охоты», говоря о Л. Толстом, «как охотничьем писателе», упомянул еще «об одном очень интересном сочинении, вышедшем из-под пера чрезвычайно симпатичного и талантливого, хотя, к сожалению, и почти не известного русского беллетриста, г-на Д. Иванова».
Отмечается факт равнодушия «большой» публики к творчеству талантливых писателей, обладающих крупным литературным дарованием, к коим автор относил и Д. Л. Иванова. Критик высоко оценил «пластичность» рассказов Д. Иванова, живо воссоздающих картины природы. Так, в монотонном камышовом «лесу» читатель ярко видит фигуры охотников, собаки которых, «едва двигая лапами», подаются вперед, ступая «точно в мягкий пух».
Недолгое пребывание Д. Л. Иванова в Оренбурге, первые яркие впечатления от встречи со степными жителями края послужили основой его «Солдатских рассказов о Туркестанском крае» (1875).
Главным героем рассказов является солдат, от лица которого ведется повествование. Последнее стилизовано, автор мастерски передает манеру речи русского солдата: «В 1867 году мы в городе Оренбурге стояли. Только приказали нам, братцы, чтобы выступить в поход в степь. В степь да в степь, только и разговору было, что в степь. А что это за птица, за диковина такая степь, никто не знал толком».
Широко использованы в рассказах народные речения, понятия и слова: «повесили мы головушки», «по Руси матушке», «харчи», «шабаш», «погуливать» и т.д. Все это, безусловно, создает особую атмосферу именно солдатских рассказов. Однако основная цель, идейная сущность их заключается в показе особенностей жизни казахов. Постепенно, исподволь знакомит писатель со степью и ее обитателями. Проходя по степным просторам, солдаты вспоминают, что казахи в степи («даром что во все стороны гладко») всегда на одних и тех же местах остановку делают. Этим пользуются и русские солдаты, совершающие поход в «тысячи две верст туда».
Если в первых главах книги даются описания сбора в поход и выступления солдат, впечатления о первых днях пребывания в степи, о степных птицах и походной жизни, то остальные рассказы («Дневка возле киргизских зимовок», «Река Илек», «Аул», «Киргизы», «Киргизская охота», «Киргизская семья») полностью посвящены казахам.
Удивление русских солдат вызвали казахские зимовки, где «избушки из дерну состроены». Автор отмечает имущественное неравенство в казахских аулах. Некоторые богачи имели по две или три «кибитки» (юрты), а бедный ютился в одной (35). В юртах богачей и убранство отличалось роскошью.
По мнению рассказчика, казахи говорят «скоро-скоро, так и сыплют словами». Живут они родами. Каждый род имеет свои места.
Характеризуя нравственные качества казахов, автор пишет, что казахи «народ отличный». Казах «характеру... мягкого, веселого. Душа у него простая, добрая. Мирный он вовсе теперь стал... Ссориться не любит зря, из-за пустого».
В казахской семье старшим является отец: «он всему делу голова». Но у казахов «закону писаного нету, разбирательство идет по старому обычаю, как старики судили. Разберут судьи, кто прав, кто виноват, и наказание положут по древнему преданию» (58).
Д. Л. Иванов много внимания уделил положению женщины в казахской семье. Он писал, что им «жить свободно, их не обижают, только что на счет работы очень трудно, потому мужики-то больше все в гости, играют, дела мало возле хозяйства справляют» (60). Между тем казахская женщина должна и раньше всех встать, чтобы подоить скотину, заготовить дрова, принести воды, пищу приготовить, с детьми возиться. Она же шерсть собирает, прядет, ткет армячину, сукно, ковры, подпруги, вьет веревки, шьет одежду, валяет кошмы, вяжет маты, вышивает, шьет, толчет просо, делает кумыс. «Всякую она работу может исполнить» (50),— писал Д. Л. Иванов. Автор любуется казахскими женщинами, говоря восторженно: «И смелые эти, киргизки, да ловкие какие» (51).
В «Солдатских рассказах» дана не только глубокая и объективная характеристика нравственных качеств казахов, но и открыто выражена авторская симпатия к казахскому народу. Ее Д. Л. Иванов пронес через всю свою долгую и неутомимую жизнь. «Солдатские рассказы» несомненно испытали влияние кавказских повестей Л. Н. Толстого, хотя в них и сохранен «специфический туркестанский колорит».
В 1877 г. в Петербурге появились рассказы Д. Л. Иванова «Из войны на далеком Востоке. Под Самаркандом. Рассказ новичка». Рассказы написаны под первыми впечатлениями боя от 1 мая 1868 г., в котором участвовал автор. Здесь нет каких-либо тактических данных. Речь идет «исключительно о личных впечатлениях новичка». Война рассматривается автором с чисто психологических позиций или, как писал Д. Л. Иванов, в своих рассказах он пытался затрагивать «преимущественно человеческую сторону». В этом плане бесхитростные записи новичка представляют некоторый интерес и для современного читателя.
В третьем выпуске сборника «Русский Туркестан» (1872) Д. Иванов опубликовал собрание песен туркестанских солдат. Автор слушал песенников различных воинских частей, расположенных в крае. Иванову приходилось делать записи множества вариантов одной и той же песни. Просмотрев все собранное, он пришел к выводу, что первые песни в туркестанских войсках появились в результате «заноса» их с Кавказа. Эти песни подвергались «обработке» применительно к местным условиям. В процессе такой трансформации песни претерпевали серьезные искажения. Иванов затратил большой труд, чтобы подготовить солдатские песни к печати. Они привлекают внимание тем, что сохраняют живое дыхание эпохи, «любопытные подробности боевых событий», а также особенности взаимоотношений русских солдат с местным населением. В некоторых из них солдаты подробно поют о «житье-разбытье... туркестанском».
В песнях сохранены также воспоминания о делах солдатских:
Много этих крепостей
Возвели мы средь степей
Мы строители лихие
Дома строили земляные.
Песни интересны бытовыми подробностями. В них упоминаются и зеленый чай, и кишмиш, и кизяк и т.д.
Важно, что в них отражена складывающаяся дружба между русскими и местным населением:
Мы уж с сартами (узбеками.—К. К.) сдружились.
И с киргизами (казахами.— Қ. К.) сжились.
Как придешь к нему ты в дом,
Угощает кумызом...
В другой песне солдат пел:
И теперь уж мирный сарт
Называет тебя «брат»...
Проникновение идеи дружбы и братства с узбеками, казахами в среду туркестанских солдат весьма любопытно. Этот факт отражал общий дух, господствовавший среди демократической части русского общества. Само «туркестанское воинство», писал Иванов, имело некоторые особенности, на что справедливо указывалось в предисловии к первому выпуску сборника «Русский Туркестан» (1872).
Среди произведений Д. Л. Иванова (Дм. Львовича), посвященных казахской тематике, заслуживает особого внимания цикл его путевых очерков «По киргизской степи», появившихся в Петрограде в 1914 г. Очерки знакомят читателя с казахской степью, ее обитателями, их образом жизни и нравами, песнями и легендами, острыми социальными проблемами. Главными героями очерков являются представители казахской бедноты, которым безраздельно отданы симпатии автора. Остановимся на характеристике некоторых из этих произведений.
Очерк «Рыбаки» посвящен встрече автора с бедными казахскими рыбаками на берегу озера Татыр. Автор создал несколько запоминающихся образов из гущи народа. Это прежде всего проводник Нургужа Атабеков, владелец пегого вислозадого «маштачка»; молодой рыбак Сабыр и пожилой казах со следами шрама на лице.
Наиболее полно и тщательно выписан портрет Нургужи, который являл собою образец «любопытного существа». Маленький, подвижный, с вороватыми раскосыми глазками на безбородом личике, Нургужа с поразительной точностью знал степь, изучил ее «вкресть и поперек» «до мельчайших подробностей», «помнил все овраги, речонки, колодцы, даже могилы». Нургужа оказался незаменимым спутником автору («сам-друг») еще и потому, что у него в степи везде были приятели, разные родственники, которые охотно принимали путешественников.
Бедный проводник знал также «множество» казахских песен, рассказов и легенд, которыми щедро делился с автором. Кроме того, Нургужа обладал целым «арсеналом» мелких, но «преполезных» практических познаний. Так, он искусно владел иглой, лечил лошадей, «заговаривал... по крайней мере кровь, порчу и дурной глаз», безошибочно ориентировался по звездам, умел «весьма сносно стряпать». Но самым важным качеством Нургужи автор считал его «характер... пленять кого угодно».
Будучи сыном степей, истым кочевником, он все невзгоды путешествия переносил не только без ропота, но «все время находился в каком-то радостном, сияющем возбуждении». Нургужа хорошо понимал юмор, «сыпал шутками» и прибаутками, с ними ложился спать и с ними же просыпался. Весело готовил обед, ухаживал за русским путешественником «как самая преданная нянька» и всегда умел поддержать его настроение. Вот почему автор считал Нургужу бесценным сокровищем, кладом. Таков один из самых привлекательных образов в очерках Д. Иванова.
О бескорыстии и поэтической натуре Нургужи можно судить еще и потому, что он «ни мало не раздумывая, сразу согласился сопровождать» русского путешественника, хотя у него были и дом, и семья, и служба (он где-то караулил). Нургужу увлекла мысль путешествовать в течение нескольких месяцев по степным просторам.
Вместе с тем Нургужа наделен мудростью народа и к месту использует его пословицы и поговорки. Так, приехав на берег пустынного озера, он надеется встретить рыбаков, «руководствуясь» поговоркой «Умитсиз сай-тан» или «только у черта не может быть надежды». Следовательно, человек всегда должен надеяться, то есть: «век живи, век надейся». Действительно, вскоре проводник повстречал рыбаков, стан которых находился в узком ущелье среди скал. Описывая стоянку («кош») рыбаков-казахов, автор рисует картину крайней степени бедности и нищеты. Около грязного и закоптелого «коша», «высоко задрав оглобли, стояла ветхая, перекосившаяся арба, валялись в беспорядке разные хозяйственные и рыболовные принадлежности, гнили объедки рыбы, кости, чешуя... Тут же паслись две стреноженые лошади и старенький, облезший верблюд».
Но среди этой невообразимой нищеты люди сохранили добрые человеческие качества и мечту о лучшем будущем. Таким мечтателем оказался рыбак Сабыр, племянник проводника, молодой, стройный человек, «с приятным открытым лицом, одетый в рваный кафтан из домотканого шекпека и в розовые ситцевые шелбары (штаны). На голове у него красовалась плисовая шапка — конфедератка, отороченная по торгайской моде корсачьим мехом» (15). Сабыр, улыбаясь, протянул русскому писателю свою маленькую, жилистую руку — и тот почувствовал себя так, точно находится «среди давно знакомых». Это были «на редкость» доброжелательные и общительные люди.
За чаепитием завязалась беседа автора с казахами-рыбаками. Один из них, пожилой человек со следами темно-красного шрама через всю щеку, рассказал, что живут они недалеко от Каратала, сеют тару (просо) и арпу (ячмень). Кочевать они не могут из-за отсутствия верблюдов. «Раньше они получали богатые уловы рыбы, возили даже в Ак-Мечет, теперь в озере стало мало рыбы».
Между тем в последнее время чересчур много рыбаков «развелось». Раньше казахи мало занимались рыболовством. Теперь казахи-рыбаки стали постепенно переходить к оседлости. А их сородичи каждое лето совершают откочевки в пределы ханства. Но оказывается, хан облагает их большими налогами, беря с них «и харадж с посева... и зякет со скота». Тогда кочевники стали просить защиты у уездного начальника. Но местная администрация, «престиж» которой «попытался защитить» автор, оказалась бессильной перед ханским своеволием... По сути местная царская администрация потворствовала поборам хана. Тяжелое положение бедных кочевников усугубилось еще и потому, что им «кочевать негде стало». Так, джайлау под Кустанаем «позахватывали поселенцы».
Шрам на лице рассказчика появился от следов удара Мурзагула Чиманова, человека буйного, своевольного, с замашками восточного деспота, очень мстительного («у него память длинная и рука тяжелая»). Этот Чиманов грабил аулы, убивал людей и в течение многих лет держал степь в страхе. Между тем местные власти «склонны были мироволить ему и смотреть сквозь пальцы на его дерзкие проделки». Поэтому «обыкновенные» грабежи Чиманова проходили для него «совершенно безнаказанно». Чиманов нередко пускал в ход «коварство, доносы и лжесвидетельство» (21). Он был «сам себе господином, и никакого суда на него» не существовало, потому что водил дружбу с уездным начальством. Вместе с тем этот деспот и воротила был порождением «новых веяний» в степи, порождением новой эпохи. Чиманов начал продавать землю (не свою, а чужую), быстро разбогател и стал одним из самых богатых людей в степи. Как отмечает Иванов, «славные степные витязи давно поисчезли», так как для их «вольных деяний» уже не было «подходящей арены».