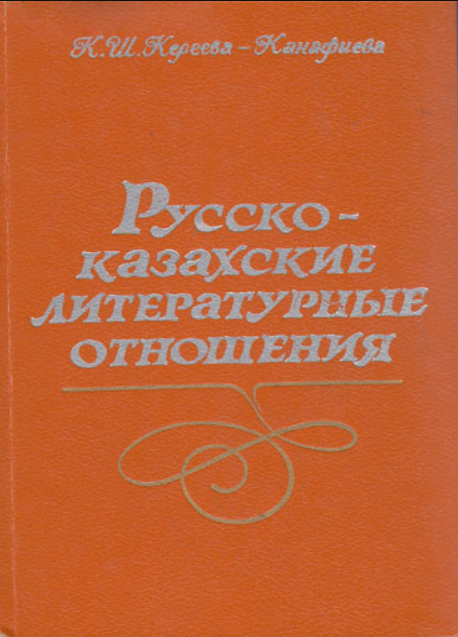Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 18
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Автор сожалеет, что «отошли в вечность и мудрые властители народные султаны — спят они под своими мазарами (надмогильное сооружение.— К. К), никому не нужные, всеми забытые». Несколько идеализируя прошлое казахского народа, писатель подчеркивает то зловещее новое, что пришло в степи и управляет жизнью народа. Это «новое степное божество»—«сум» (рубль). Теперь рубль создает в степи «и величие, и счастье поклоняющихся ему, к которому сводятся все благопожелания, все надежды» казаха.
Д. Л. Иванов ярко и образно показал тлетворное влияние «желтого дьявола» на обитателей казахской степи. «Все ныне приобрело материальную, меновую ценность — и совесть бия, и честь аксакала, и должностная печать управителя»,— пишет автор. Далее он заключает: «Только в песнях (казахов.— К. К.) можно найти еще бледные отклики того чудесного прошлого, когда в степи царила аристократия духа, когда сказочные батыры совершали свои бескорыстные подвиги, когда и ханы и народ чутко прислушивались к правдивым советам благочестивых хаджей и вещих дуванни (юродивые.— К. К.)—и всем жилось поэтому так легко и свободно. И все это миновало, и никогда не вернется... «Олген келмес, ошкен джанбас»— гласит старая казахская пословица (мертвое не воскреснет, потухшее не загорится)»— этими строками завершает автор свои размышления о судьбе казахского народа.
С появлением в степи нового «божества» в виде реального «сума» (вернее сома.— К. К.) все более ничтожную роль стали играть «благочестивые хаджи и вещие дуванни» (вернее: Дуана — К. К.). Однако Д. Л. Иванов не понял или не захотел понять, что в степи никогда не было идиллического «единства» между ханами и народом, между эксплуататорами и эксплуатируемыми. И как бы автор не оплакивал «доброе старое время» в казахских степях, оно было таким же безотрадным, как и во времена прихода «желтого дьявола».
В очерке «Ночь на Кара-Су» Д. Л. Иванов описал ночной аул с его блеянием овец, ржанием лошадей, взрывом «звонкого девичьего смеха», гортанной речью казахов, «явственным» запахом конского навоза и теплого бараньего сала. Далее следует описание внутренней обстановки юрты, где на ночь остановился «тюре... из Петербурга», его представил хозяину юрты Доспаю Амирову проводник Нургужа.
Д. Л. Иванова особенно интересовали этнографические особенности казахского населения. Поэтому он дает детальные описания юрты и ее обстановки. Вместе с тем, интересуясь и обитателями юрты, автор скупо, но достаточно впечатляюще рисует портреты отдельных лиц. С особой симпатией он пишет об «обворожительной» Майе, которая была свояченицей старшей снохи Доспая Алмагуль. Майя была «стройная смуглянка с живым взглядом черных лучистых глаз и шаловливой полудетской улыбкой, открывавшей чудесные зубы». Она «хлопотала... как мотылек и щебетала, что птичка». Ее душевные качества неожиданно раскрылись во время исполнения Нургужой песни о «Сауре» (Весна)—Майя расплакалась. Но на следующее утро она была «свежая, как огурчик, с разрумянившимся на утреннем холодке лицом и ясным взглядом молодой дикарки».
Путешественника заинтересовали драгоценности хозяйки дома. Это были маленькие шедевры восточного искусства, сделанные руками знаменитого зергера (мастера.— К. К.) из Джармоллы. Здесь были и кольца, и серьги, и браслеты, и ожерелья. Встречались изделия из слоновой кости, золота. Особенно поразили гостя жемчужные серьги и эффектный головной убор — саукеле.
Между тем снохи Доспая упрашивали Нургужу спеть песню про Баян-Сулу или про «Саур». Доспай охарактеризовал Нургужу как «большого мастера» казахских песен. Один из сыновей Доспая принес кобыз —двухструнный инструмент (род маленькой виолончели) и вручил Нургуже. Автор следующим образом характеризует его игру на кобызе и пение. «Вдруг слабый, дребезжащий, словно издалека идущий звук жалобно и тягуче прорезал воздух, и все мгновенно затихли и насторожились. За первым звуком последовал второй — уже более определенный... Его неожиданно сменила какая-то мудреная фиоритура, которая столь же неожиданно оборвалась... А там опять откуда-то потянулась тонкая, плачущая нота. Другая... Третья... Снова повторилась прежняя фиоритура — и чуть слышно раздались вступительные слова песни... Печальные звуки кобыза, чередуясь с вычурными фиоритурами, то резко и неожиданно обрывались, то, захваченные своеобразной мелодией, затейливо сопровождали ее и как змеи переплетались между собою в странные, незнакомые много-звучия».
Передавая те чувства и мысли, которые возникли от песни «Саур» в исполнении Нургужи, автор особо отмечает его мастерство исполнителя. В самом деле Нургу-жа, склонившись над «неуклюжим» инструментом, то бережно, то с грубой силой водил смычком по его струнам, а голос его, по мере того как развивалась песня, то замирал почти до шепота, то, наконец, в каком-то первобытном экстазе гремел, подобно трубе. Иванов привел в своем переводе отрывок популярной песни казахов:
О милая, шепчет он ей, прощаясь:
Плесни водой перед порогом,
Чтоб отец твой,
Если погонится за мною,
Подскользнулся и упал...
После этих строк автор очерка признает, что он никак не ожидал, чтобы у казахов «могли существовать подобные поэтические произведения: вся песня была
замечательна такой неподдельной искренностью, от нее веяло таким свежим, правдивым вдохновением», что гость стал «опасаться, как бы Доспай» не спросил его: «А у вас, в России, умеют сочинять такие песни?»
Но Доспаю было не до гостя. Он сидел неподвижно, «с поникшей головой, с прижатыми к груди руками». Скорбная складка залегла на его крутом, загорелом лбу, а губы беззвучно шевелились, повторяя про себя отдельные слова песни про далекую весну, про невозвратно исчезнувшую молодость. Слушая песни Нургужи, старая байбише вся отдалась власти настроения. «Но всего трогательнее выразился душевный переполох,— пишет автор,— у хорошенькой Майи. С побледневшим личиком, неподвижная и немая, она своими широко раскрытыми, словно удивленными, очами так и уставилась в рот Нургужи с явным намерением не проронить ни единого слова, ни единого звука! Для верности она даже дыхание затаила — но под конец не выдержала, бедняжка. Совсем по-детски расплакалась и убежала из юрты».
Впрочем, как пишет автор, песня Нургужи разбере-дила-таки нервы всем... Доспай усиленно сопел, его жена недовольно хмурилась, у возвратившейся Майи глаза припухли от слез. Воздействие песни было таково, что «всякому словно было не по себе, хотелось уйти в свою скорлупу, побыть наедине с самим собой». Автор объяснял подобное состояние тем, что «тема песни была слишком общечеловечна, чересчур остро задевала чувства каждого, особенно тех, чей возраст или положение позволяли, увы, только мечтать о минувших мгновениях свободы, любви и счастья».
Да и на русского путешественника песня произвела глубокое впечатление: он долго еще лежал, устремив
глаза в темноту, и не мог уснуть, потому что «вспоминались отдельные места песни, отдельные ее фразы, даже интонации, которые придавал им Нургужа, и все грустнее становилось на душе».
В очерке «Ночь на Кара-Су» Д. Л. Иванов дал своеобразный «коллективный» портрет казахских девушек. Автор видел нарядно одетых девушек, собравшихся ехать верхом в соседний аул, где вечером предстоял большой праздник с участием музыкантов и улянгчи (вернее өлеңші — певец.— К. К.) «Степные амазонки» были красиво одеты. Одна из них — в бархатном малиновом халате и меховой шапочке с пучком совиных перьев...
Картины степной природы в очерках Д. Л. Иванова занимают значительное место. То они служат фоном для драматических событий, то описания их перекликаются с душевными переживаниями автора. В очерке «Степные призраки» ночная степь выступает как таинственная, загадочная и даже зловещая сила, нарисована в мрачных красках, в виде безотрадной, пепельно-серой равнины. Усталым путникам степь кажется «глухой, печальной».
В очерке «На утином перелете» создан образ другого проводника — Нурпеиса, огромного роста, черноглазого молодого казаха, плотного могучего сложения, настоящего богатыря. Нурпеис был сыном Булгака, внуком Карджаубая и правнуком Нармагамбета. Батыр происходил из древнего и знаменитого, но впоследствии обедневшего рода. Он не мог уже совершать кочевки и вынужден был заниматься поставкой дров на почтовую станцию. Иногда Нурпеис зарабатывал и тем, что ездил (как подставное лицо перед Аллахом) за какого-нибудь богача в Мекку.
Об уме и силе Нурпеиса свидетельствует его способность говорить неторопливо и складно. Нурпеис принял русского путешественника за тергучи (вернее: тергеуші — следователь.— Қ. К.) и стал рассказывать, что в степи «много... неправды, много бедного народа страдает». Так, богач Каирбек имел одних верблюдов голов 300, а платил в казну налоги меньше любого бедняка. Такая несправедливость объяснялась тем, что Каирбек— «богатый, сильный», находится в дружеских отношениях с управителем, у самого уездного начальника в гостях бывает...
В этом очерке автор впервые открыто говорит о социальной несправедливости в казахской степи. Причину тяжелого положения шаруа автор видел в том, что у бедняков не было силы, кроме того, они не держатся друг друга и не понимают собственной пользы (об этом с горечью говорит бедняк Абдрахман). Он рассказал и о том, как богач Каирбек покупает голоса: «Угостит тебя... подарит на платок кумачу, и ты первый подашь голос за того, кого он укажет».
Жители аула вечером собрались в юрте Нурпеиса, чтобы побеседовать с необычным гостем. Речь снова зашла о богаче Каирбеке. Желая положить конец спору, автор заявил казахам, что они просто завидуют Каир-беку... Неожиданно в беседу вступил старик, до этого сидевший молча. Он поддакнул, сказав, что русский гость прав. Но затем серьезно сказал; «Ах, да разве в Каирбеке суть? Что Каирбек? Сегодня он жив, завтра его нет. Не в нем, а в том, что плохие времена настали, правды нет больше на земле; только деньгами и можно все сделать, а бедному человеку, будь он добр, и умен, и честен как беристе (вернее: періште — ангел.— К. К.), пропадать надо, разве продать кому-нибудь свой разум, да совесть». Старый казах с горечью заключает: «Все стало продажным у нас в степи, никому на слово нельзя поверить, всякий норовит изобидеть другого, уничтожить, съесть Вот какие теперь времена». В конце своих горестных размышлений он поет песню «Зарзаман» («Плач времен», как перевел Д. Л. Иванов.— К. К.).
Старый казах Аблай Карабатыров в свое время был хорошим «улянгчи». Он взял домбру—«неуклюжий треугольный инструмент, несомненный предок... русской балалайки»— и стал бегло перебирать пальцами струны. Певец запел, а точнее заговорил на особый распев, тягучий и унылый. В песне шла речь о тяжелых временах, наставших в степи, о процветании взяточничества и обмана, о гнете и распрях богачей. Характеризуя реакцию слушателей на эту песню, автор подчеркивает, что всех терзала одна мысль, «всех угнетала одна и та же правда жизни, постыдная и жалкая правда, от которой некуда уйти, некуда скрыться».
Русский гость высказал старому Аблаю свос искреннее восхищение его игрой и пением и просил спеть что-нибудь еще, только «повеселее». Певец затянул новую песню, «по мотиву, правда, столь же заунывную, как и первая, но слова! слова!». Автор был чрезвычайно удивлен и поражен: «Признаюсь сразу, я собственным ушам не поверил. Вообразите только, старый киргиз распевал не более не менее как письмо Татьяны к Онегину». «Письмо» имело всеобщий успех у слушателей, в том числе и у жены Нурпеиса.
Когда русский путешественник спросил Аблая: «Не знает ли он, кто сочинил эту песню?», тот ответил, что какой-то казахский «улянгчи». Д. Л. Иванов писал: «Об истинном авторе он, конечно, даже не подозревал» (109). Как известно, перевод текста письма Татьяны к Онегину был осуществлен великим казахским поэтом Абаем Кунанбаевым, который создал и музыку к этой песне, ставшей популярной в казахских степях.
Очерк «На кладбище» посвящен описанию обширного казахского кладбища рода Такчже. Когда-то этот род был богатый, но затем обнищал и почти весь вымер. Обеднел род потому, что неспокойные были в нем люди, часто воевали, а некоторые на выборах без расчета тратились, другие слишком «щедро» бедным помогали... Пропасть всякого народа кормили, поили. А тут еще джуты подошли: сколько у них в те годы скота пропало!— говорит Нургужа.
В очерке «Дуадак» дано мастерское описание сцены охоты на степных дроф. Однако путники попали в топь. С большим трудом казахи вытащили тарантас русского путешественника из грязи. Однако это лишь внешняя канва произведения. В очерке примечательны образы кашевара Баяша Тяджиева, здоровенного грузного мужчины, со светло-карими на выкате глазами; пожилого казаха по имени Бох-Басар, в потертом лисьем малахае, с жидкой, окрашенной хною бороденкой; ямщика, молодого и горячего Акылбая; наконец, бедняка Джумагалия.
Автор короткими штрихами рисует запоминающиеся портреты их. Акылбай яростный сторонник «вольной» кочевой жизни. Кашевар Баяш согласен с русским путешественником, что казахам нужно постепенно оседать и обрабатывать землю. На этой почве возникает спор между Акылбаем и кашеваром, а затем неожиданно вспыхивает и драка.
Мудрым показан старый Бох-Басар. Во время беседы у костра он вспоминает, как несколько лет назад жители его аула в Каркаралинских горах пережили джут... Однажды Бох-Басар с братом чуть не погибли близ озера Джаканаш-нор в Тас-Кура Кумах. Спасли братьев какие-то русские, пробиравшиеся в Джаркент. И здесь мудрый старик говорит: «Тяжела бывает нам кочевая жизнь, очень тяжела». Но затем добавляет: «А все же лучше, чем на одном месте сидеть, из одной юрты смотреть. Ведь вот и русские, хоть и привыкли к другой жизни, а все-таки должно быть тоже любят кочевать — все бродят с места на место» (123).
В дальнейшей беседе русский путешественник приводит Примеры зажиточной жизни казахов в Тургайской области, перешедших на оседлость. Однако упрямый Акылбай таких казахов считает «выродками». Горячо защищая свою точку зрения, русский путешественник говорит своим спутникам, что «всюду народ множится, всюду людям становится теснее, выход ищут. Владеть землей должен тот, кто больше над нею трудится» (125). Поэтому-то и вам, казахам, надо оставить прежние привычки, «не держаться старины во что бы то ни стало», надо «стараться жить по-новому», советует автор. Этот призыв находит отклик у Баяша. Он говорит, что многие казахи, живущие у Қара-Иртса (Черный Иртыш.— К. К.), сеют хлеб на полях, «даже землю орошать научились, арыков по степи понакопали, воду из гор провели... и живут себе ничего». Земледелием занимаются казахи также в окрестностях Мерке, Туркестана.
Казахи признали, что «есть... добро и в хлебопашестве», хотя Акылбай продолжал уверять: «Джатаку — что землю пахать, что чужой скот пасти, что в городе работать— все одно. Отбился он от вольной жизни, забыл, как отцы и деды жили». Акылбай слепо держится за старину, потому что молод и не вкусил еще сполна горьких плодов кочевой жизни.
Автор с большим сочувствием рисует портрет Джумагалия, молодого джатака, хилого, изможденного, со сморщенным бескровным лицом. Голодный джатак стал жадно есть мясо дрофы, которое имело консистенцию, среднюю между... камнем и деревом и от которого все другие отказались. Но Джумагалий «съел все без остатка, тщательнейшим образом обгладывая кости, да еще после долго осматривал каждую из них, очевидно, боясь упустить малейший обрывок мяса. И все это проделывалось им с самым бесстрастным видом, не торопясь, аккуратно и методично». Автор открыто выражает свое сочувствие маленькому испитому человеку.
В очерке «Дуадак» автор смело показал тяжелую жизнь кочевников, а также неустроенность и переселенцев. Здесь он выступает как умный и деловой наставник, советующий казахам переходить к оседлости и обработке земли. Вместе с тем он с подниманием относится и к судьбе переселенцев, разъясняя казахам, что переселяются крестьяне не «по доброй воле», а потому, что «тесно им на родине, прокормиться трудно». Переселенцы, говорит автор, «свободной земли ищут».
Как и в других очерках, в «Байге» привлекает внимание описание деталей, имеющих этнографическое значение. Конские скачки описаны не только как красивое зрелище, но и как сгусток острых жизненных драм, нередко с трагическим финалом.
По пути к месту скачек автор встретил бедняка Га-бидуллу, который спешил на соревнования, надеясь выигрышем поправить свое тяжелое материальное положение. У бедняка не было даже собственной лошади, и он вынужден был взять ее у своего богатого хозяина под кабальные условия. Но слишком велик был соблазн крупного выигрыша: первый приз представлял целый табунок в двадцать лошадей да в придачу рублей на триста серебра...
Теплыми красками нарисован портрет молодого бедного человека, который ехал на скачки в рваном халате и в старой европейского образца фетровой шляпе. Он сказал, что едет «счастья добывать». «Придет мой конь первым —сразу разбогатею, женюсь, хозяином заживу»,— заявил бедняк. Но владелец лошади уже за одно ее пользование для скачек обязывал Габидуллу безвозмездно прослужить целый год... В случае «порчи или увечья отданного... на подержание коня срок этой даровой отработки мог возрасти до 20 ле;г!» «Разве это не рабство?»— с возмущением писал Д. Д. Иванов.
О том, что бедняк едва ли возьмет приз, вполне объективно говорили русские гости: редкая лошадь повторно выдерживает изнурительное состязание, а у Габидуллы лошадь взяла приз на одном из предыдущих состязаний... И действительно, лошадь Габидуллы пала. И русские люди, возвращаясь с байги, видели молодого человека, стоявшего на коленях и безучастно молившегося у трупа павшей лошади... Впереди его ожидала чуть ли не пожизненная кабала.
В «Легенде о Сартолагае» описана поездка автора к озеру Зайсан. Его проводник казах Джакуп Кульмазов рассказал, что когда-то вместо озера здесь было море («денгиз»), да и Иртыш протекал... «стороной». «Только и море ушло, и Иртыш за ним».
В беседе с проводником автор убедился, что его познания в области мусульманской религии невелики. Так, Джакуп не имел никакого представления о пророке и знал лишь его имя. Не знал он и молитвы, кроме двух слов, да и значения их («Алла иль Алла») не понимал. Однако Джакуп оказался чрезвычайно суеверен: он «крепко верил в шайтана, в албасты, в джинов и всякую прочую нечисть».
В Кокпекты автор встретил знакомого казаха Джурабая, бросившего семью и скот, отказавшегося от положения и занявшегося поисками золота. В золотой лихорадке он то богател, то разорялся, а теперь снова запил, промотав все ранее добытое. Жил Джурабай в крошечной хибарке, вросшей в землю. Убогим было его жилище.
В очерке художественно правдиво воссоздана обстановка быта и жизни золотоискателей. Не случайно на предложение вернуться к прежней жизни Джурабай ответил: «Да нет, нельзя этого сделать! Как пьяница от водки, так мы от золота отстать не можем».
В Кокпекты автор нанял проводником Мукзума, старого казаха в грязном, поношенном азяме и стоптанных резиновых галошах на босу ногу. Проводник оказался человеком не из разговорчивых. Но недолго дичился старый Мукзум русского путешественника. Окончательно их сблизили... папиросы, до которых Мукзум «оказался большой охотник». Русскому путешественнику Мукзум доверил секрет, который скрывал даже от своего сородича Джурабая: он принес самородки золота, тем самым доказав его наличие в окрестностях горы Сартолагая, которая оказалась покрытой потоками блестящего белого кварца вперемешку с выходами ярко-алых глин. Эти красные пятна издали похожи были на кровь. Проводник уверял, что речь действительно идет о крови — и рассказал следующую легенду.
Могучий батыр Имьямин откочевал со своими стадами и женами и невольниками от озера Балхаш к берегам Иртыша. Здесь он разбил свои шатры. В мутных, желтоватых волнах реки утонул его любимый младший сын. Поиски трупа были безуспешны. Тогда Имьямин задумал запрудить реку и отвести ее воду в сторону, чтобы осушить дно...
Невдалеке находилась гора Сартолагай. Несчастный отец со старшим сыном понесли эту гору на специальных носилках к реке. Ночь застала в пути. Это невиданное усилие могло бы иметь успех, если бы отец и его сын Алимбай не стали бы пить кумыс, есть мяса, прикасаться к женщине. Однако молодой Алимбай нарушил запрет. И когда они попытались снова понести носилки, то сын оказался ослабевшим и отец опрокинул гору на спину сына. Так старший сын оказался под горой... Услышала страшный грохот молодая жена Алимбая. Она бросилась к горе, пала ничком на нее с рыданиями и воплями, рвала на себе платье, и терзала ногтями свои груди, и полились из них кровь и молоко... Вот откуда эти белые и красные потеки на горе, говорил старый проводник.
Однако поверхность легендарного Сартолагая оказалась безжалостно изрезанной зиявшими выходами шурфов и штолен... Здесь уже безраздельно хозяйничали золотоискатели.
Последний очерк Д. Л. Иванова назывался «Бараны». Это необычное произведение: сочетание художественного очерка и глубокого научного исследования. Вместе с тем данное произведение представляет по сути гимн барану, которого автор называет «своего рода чудом природы».
В произведениях малого жанра, очерках рассказах, посвященных казахам и казахской степи, Д. Л. Иванов выступал как близкий друг талантливого, но угнетенного народа. Сочувствуя бедным представителям казахского населения, писатель настойчиво советуем им переходить к оседлости, земледелию. Восхищаясь поэзией, музыкой, песнями и легендами казахов, Д. Л. Иванов видит в этом благодатную почву для привития кочевникам основ современной культуры и цивилизации. В/то же время он отвергает злополучный «сум», то есть капитал, принесший в казахскую степь моральную потерю: на «сум» стало
возможным купить в степи все, в том числе честь и совесть. Он вызвал в степи процесс быстрого обеднения, обнищания шаруа. Однако оседание казахов, появление среди них джатаков само по себе еще не решало всех проблем в жизни народа. Поэтому джатаки вынуждены были в своей массе заниматься новыми промыслами, например, рыбной ловлей (очерк «Рыбаки»), охотой («На утином перелете»), идти в наймы к «своим» богачам или к казачьей верхушке в станицы.
Почти во всех произведениях Д. Л. Иванова, посвященных казахской тематике, есть описания степных и горных пейзажей Казахстана, природных богатств края, которые, как полагал писатель, в будущем будут освоены для блага народа и не станут хищнически растаскиваться («Легенда о Сартолагае»). В целом ряде своих произведений Иванов запечатлел незабываемые страницы прошлого казахов, создал живые, реальные портреты людей из народа. Он навсегда оставил прекрасные образцы казахских песен и легенд. Впервые русский писатель дал тщательную и эмоционально насыщенную оценку казахской музыке. Его непосредственное впечатление от казахских песен и игры на кобызе и домбре поражают своей правдивостью, горячим волнующим чувством сопереживания с казахами-слушателями.
Д. Л. Иванов видел в казахских степях памятники древности, слышал музыку и поэзию, народный эпос, присутствовал на состязаниях борцов, вплотную столкнулся с проблемами земледелия, развития промыслов и т. д. Описывая свои наблюдения, он внес много нового, ранее до него незамеченного, непонятого, неоцененного.
Д. Л. Иванов дорог казахскому народу не только как неутомимый исследователь обширных просторов, но и как большой и бескорыстный друг, близко принимавший его нелегкую судьбу.
О различных сторонах жизни и быта казахов писал в своих путевых очерках замечательный художник, талантливый писатель и известный путешественник Василий Васильевич Верещагин (1842—1904). Художник дважды посещал) различные районы Туркестана — в течение 1867—1868 и 1869—1870 гг. Изучая Среднюю Азию и казахские степи, он создал большую серию полотен, в которых запечатлел типы местных жителей и природу края. В картинах В. В. Верещагина воплощен многообразный и красочный мир как современной ему, так и прошлой истории Туркестана. Его полотна отличаются правдивостью и высоким гуманизмом. Художник всем своим творчеством отвергает бессмысленные, опустошительные войны. Картина «Апофеоз войны», на которой изображена груда человеческих черепов, служит как бы предостережением «всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим».