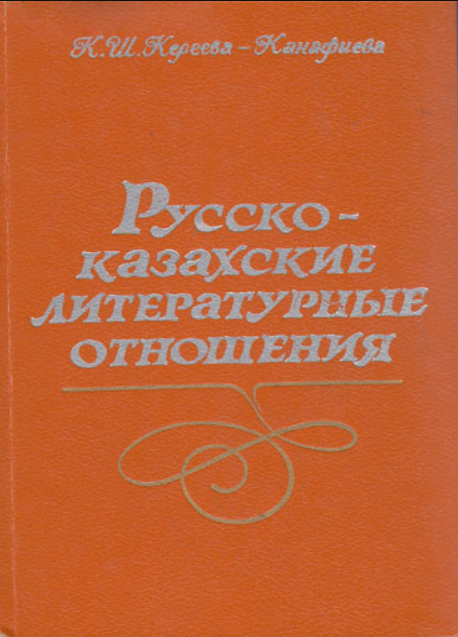Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 4
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
А. Н. Плещеев за время пребывания в крае написал несколько поэтических произведений, а также повесть «Пашинцев», в которой воссозданы особенности жизни и быта оренбуржцев. М. Л. Михайлов внимательно следил за его творчеством, с радостью отмечая, что поэт после тяжелой ссылки сохранил верность идеалам служения народу. В статье, посвященной новому изданию стихотворений А. Ню Плещеева в 1861 г., Михайлов заметил, что стихи поэта впервые появились в печати лет 15—16 тому назад. Именно тогда была издана небольшая книжка стихов поэта, и «лучшие журналы» с «пренебрежением отозвались» о ней. «Серьезным рецензентам»,— иронизировал Михайлов,— не понравилось, что Плещеев говорит «о любви к человечеству, о его страданиях и будущих идеалах, о светлых надеждах». Михайлов далее писал: «Дико вспомнить теперь об этом. Неужто благородные чувства, благородные мысли, которыми веяло от каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были таким ежедневным явлением в тогдашней русской поэзии, чтобы можно было с пренебрежением отвернуться от них?».
Знаменательно, что эпиграфом к первой книжке стихов Плещеев взял следующие слова: «Земля иссушена и уныла, но она вновь позеленеет. Дыхание зла не вечно будет проходить по ней, как дух попаляющий».
М. Л. Михайлов, отмечая общий характер идеи, содержащейся в этом эпиграфе, подчеркнул, что «поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам». В новом издании стихотворений Плещеева критик особенно выделил «прекрасный гимн» «Вперед»:
Вперед! Без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!
Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет...
Для М. Л. Михайлова, поэта некрасовской школы и соратника Н. Г. Чернышевского, очень важно, что Плещеев сохранил даже после царской ссылки верность идеалам свободы и жажду возрождения, что в лучших своих произведениях он по-прежнему призывал к честному служению обществу, родине.
В заключение следует подчеркнуть, что М. Л. Михайлов был одним из выдающихся деятелей революционе-ров-шестидесятников, демократические взгляды которых на необходимость проведения широких мер по просвещению и цивилизации народов окраин России получили дальнейшее развитие в творчестве передовых писателей последующих десятилетий XIX в.
Именно в 70—90-годы значительного расцвета достигает прогрессивное, демократическое направление русской литературы. Реалистические традиции А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского в эти десятилетия достигают своих вершин в критическом реализме Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова. Именно на этот период приходится расцвет литературной деятельности Н. С. Лескова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Г. И. Успенского, В. Г. Короленко, посвятивших ряд произведений и казахской тематике. Наконец, в 70—80-х годах вошли в литературу А. П. Чехов, В. М. Гаршин и др.
Крупнейшие писатели-реалисты подвергают беспощадной критике крепостнические пережитки, самодержавие, буржуазные порядки. Вместе с тем они утверждают народность литературы как один из главных признаков художественности произведения. Это понятие, как известно, предполагает прежде всего глубину и правдивость освещения жизненно важных для народа вопросов и требует от писателя простоты, ясности и выразительности языка произведения, его доступности широким народным массам. Эти качества были присущи демократической и гуманистической литературе прошлого века, они благотворно воздействовали и на ее межнациональные связи, в частности, русско-казахские.
Великолепным знатоком народной жизни был замечательный русский писатель Николай Семенович Лесков (1831—1895), в чьем творчестве нашли любопытное отражение и казахские мотивы. В своем «Очарованном страннике» писатель сумел передать то неуловимое, что называется «душою народа».
Литературная деятельность Лескова началась с 60-х годов. В эти годы писатель создает ряд крупных художественных произведений — рассказ «Овцебык» (1862), повести «Житие одной бабы» (1863) и «Леди Макбет Мценского уезда» (1865), в которых поднимает социальные проблемы времени. Вместе с тем из-под пера писателя выходят и антидемократические романы («Некуда», 1864 г. и др). В последующие 70-е годы Лесков создает роман «Соборяне» (1872), повести «Запечатленный ангел», «Очарованный странник» (1873) и др. В этих своих творениях Лесков выступает блестящим беллетристом.
В повести «Очарованный странник» главным героем выведен беглый крепостной Флягин, человек бурной судьбы, простодушный, «добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Васнецова». Дороги скитания привели его однажды в казахские степи. Сам автор также изъездил всю Россию: от Северной Карелии до солончаков Прикаспия. Бывал он и в казахских степях Оренбуржья, видел собственными глазами серебряное море ковыля. Эти впечатления позволили писателю создать романтическую обстановку пребывания Флягина в плену у кочевников.
По-былинному могучий Иван Северьянович Флягин «родился в крепостном звании» и происходил из дворовых людей, был сыном графского кучера. Его образ олицетворяет талантливость, духовную и физическую силу русского народа. Первое упоминание о казахах связано с тем, что отец Флягина правил казахским «шестериком». А когда подрос Иван Северьянович, то его «в этот же шестерик форейтором посадили».
Знаток и укротитель бешеных коней, Флягин с похвалой отзывался о казахских конях, говоря, что эти «лошади были жестокие... были просто зверь, аспид и василиск,— все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривы... ну, то есть, просто сказать ужасть! Устали они никогда не знали».
В казахских степях Флягин видит конские косяки и «при них же тут и татары в кибитках». Следует оговориться, что речь идет о казахах, а не о татарах, хотя Флягин и казахского хана Джангара (Джангира.— К. К.) считает важным татарином.
Любопытны первые впечатления Флягина о казахской степи и ее обитателях* Очарованному страннику все кибитки показались одинаковыми, но одна из них была «пестрая-препестрая», а вокруг нее много разных господ находилось, которые ездовых коней пробовали... Посреди толпы штатских, военных, помещиков «на пестрой кошме» сидел «тонкий, как жердь, длинный степенный татарин (казах.— К. К.) в штучном халате и в золотой тюбетейке». На вопрос Флягина, «что это такой за важный татарин?», его собеседник ответил: «Это хан Джан-гар... Хан Джангар — первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь» (гл. 5, 209).
На вопрос Флягина: «Разве... эта степь не под нами?», собеседник отвечает: «Нет, она... под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине... хан Джангар там царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады и мало-зады и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться» (гл. 5, 209).
В этих словах много верного и справедливого. Действительно, царские чиновники не забирались в глубь степи, где почти полновластно хозяйничал хан. Он, по мнению очарованного странника, понимал толк в лошадях («в коне все нутро соглядает»), Лесков красочно повествует об азартной торговле, развернувшейся вокруг дивной кобылицы, которую выставил Джангир для продажи. Очарованный странник сам готов был отдать за нее не только душу, но и «отца и мать родную».
Необычный характер торга автор передает эпическим тоном. В разгар торга «из-за Суры, от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник». А «всадник — татарище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу: «Сто монетов больше всех даю!» (гл. 5, 210). А владелец дивной кобылицы «сухой хан Джангар сидит да губы цмокает».
В этот напряженный момент «от Суры с другой стороны еще всадник татарище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал» (гл. 5, 210). Оказалось, что хан Джангир почти каждую ярмарку устраивал подобный ажиотаж («такую штуку подводит»): в начале он распродавал косяки обыкновенных коней, а «потом в последний день... как из-за пазухи выймет такого коня или двух», что любители коней не знают, что делать. А хитрый хан «глядит на это, да тешится и еще деньги за то получает».
Герой повести стал очевидцем очень азартной торговли кобылицы между двумя азиатами-богачами Бакшей Отучевым и Чепкуном Емгурчеевым. Последний даже предложил хану прислать свою дочь в придачу за кобылицу... Вот тут-то вмешалась толпа, уговаривая торговцев не доводить себя до разорения. Именно в эту острую минуту азиаты показались герою людьми рассудительными и степенными. Они порешили, «зачем напрасно имение терять». «Хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять —с общего согласия наперепор пустят» (гл. 5, 211).
«Наперепор»— оказался своеобразной дуэлью: противники садились друг к другу лицом, упирались пятками ног, держались за левые руки, а в правой сжимали плети, которыми пороли друг друга. И сухощавый Чеп-кун вышел победителем из этого жестокого поединка. Хотя кровь у него струилась по спине, но он и вида не подал: поехал на отвоеванной кобылице.
Но хан Джангир приготовил еще сюрприз: на ярмарке появился «караковый жеребенок, какого и описать нельзя» (гл. 6, 214). Автор сравнивает его с птицей, но «он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось». И этот конь «только на одну минуту» стал собственностью Флягина, который сел тягаться «на мировую» с Савакиреем, тоже претендовавшим на коня. Савакирей «во всех Рынь-песках» первым батыром считался и «через эту амбицию ни за что не хотел» уступать Фля-гину. Последний запорол Савакирея до смерти. Присутствовавшие тут же русские чиновники и офицеры обвинили Флягина в убийстве и намеревались вести его в полицию. Тогда Флягин обратился к степнякам: «Спасайте, князья; сами видели, все это было на честном бою» (гл. 6, 216). И героя кочевники скрыли, дав ему убежище и кров: он бежал с ними в степь, «в самые Рынь-пески», где пробыл десять лет, а потом и оттуда бежал. В этом эпизоде автор показывает естественную справедливость кочевников, противопоставляя ее «правосудию» чиновников. Но Флягину в степи было скучно, однако раньше уйти, чем через 10 лет, нельзя было, хотя его и не держали в яме и не караулили постоянно. Очарованный странник о казахах говорил: «Они добрые, они этого неблагородства со мной не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы,— говорят,— тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь,— коней нам лечи и бабам помогай» (гл. 6, 216).
И пленник у кочевников стал лекарем. Но Флягин стремился вернуться на родину с первого дня пребывания в степи. Однако он был лишен этой возможности, так как был «подщетинен»: однажды когда пленник попытался бежать, кочевники собрались и навалились на него, а один из них «на подошвах шкуру подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил» (гл. 6, 217). После этой операции Флягин не мог нормально ходить, а о побеге и нечего было думать. Затем его женили. Дали двух жен. Когда Флягин попал в кочевья Агашимольт, ему «еще две дали». Так Флягин стал многоженцем.
И хотя к Флягину все относились хорошо и у него была большая семья, много детей, тем не менее он «тосковал: очень домой в Россию хотелось» (гл. 7, 221). Прошло много лет, но тоска не давала покоя.
Надеялся Флягин, что ему помогут православные миссионеры, которые однажды прибыли в аул Агашимолы. Но миссионеры, показав реестр, где было записано, сколько человек они «присоединили» к христианской вере, отбыли восвояси, порекомендовав Флягину как рабу божьему повиноваться и не роптать. Этот эпизод не в лестном свете показывает представителей христианской религии.
Освобождение к Флягину пришло неожиданно. Он воспользовался суматохой, возникшей в ауле в результате действий конокрадов-хивинцев. Пленный ушел и вскоре добрался до Астрахани. Так закончилась очередная одиссея очарованного странника.
Несмотря на то, что в степях Флягин находился в неволе, он с большой теплотой отзывался о кочевниках, уважая их за справедливость, простоту нравов, добросердечие. В повести много бытовых зарисовок из жизни казахов. Флягин, например, рассказывал: «У меня, спасибо, одна жена умела еще коневые ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом коптит». Здесь верно передана «технология» изготовления национального изделия казахов —«казы».
Великолепны в повести картины степного пейзажа. Тоскуя по родине, Флягин обращал свои взоры на окружавшие его просторы. Пленник видел: «травы буйство, ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется и по ветерку запах несет; овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет» (221). Безвыходность положения, безысходность тоски усугублялась этой бескрайностью, безграничностью.
Если ковыльная степь предоставляла пленнику кое-какие радости, то еще тягостнее ему было в солончаках «над самым над Каспием». Там «солнце рдеет, и солончак блестит, и море блестит». Флягин говорил, что там, в солончаках, «все одно блыщание» (гл. 7, 221). С усилением тоски главного героя по родине меняется и характер пейзажа: степь приобретает «знойный вид, жестокий; простор — краю нет» (гл. 7, 221).
Язык повести, особенно в той ее части, где герой рассказывает о своем десятилетнем пребывании в казахских степях, неповторимо красочен и привлекает внимание инонациональными нюансами («шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы...»), в передаче которых очарованный странник допускает много фантазии и искажений (вместо: «дервиши»—«дербыши» и т. д.).
В разделах «Очарованного странника», посвященных казахским степям, Лесков воспел романтику жизни степных богатырей, готовых ради прекрасного коня жертвовать не только богатством, но даже жизнью. Показав бескрайние просторы степей, писатель говорит, что ее обитатели простодушны, добры и доверчивы, как дети. Но особняком стоит в повести образ хитрого и алчного хана Джангира, которому доставляло огромное наслаждение видеть людские страдания.
Талантливый художник-реалист, Н. С. Лесков, по словам Горького, «знал народ с детства; к тридцати годам объездил всю Великороссию, побывал в степных губерниях, долго жил на Украине... Он взялся за труд писателя зрелым человеком, превосходно вооруженный не книжным, а подлинным знанием народной жизни». Тяга писателя к странствованиям по родной земле, его неподдельная любознательность позволили ему глубоко ознакомиться с жизнью многих народов России, в том числе и казахского. Н. С. Лесков никогда не оставался безучастным, сторонним наблюдателем: он мастерски улавливал актуальные проблемы народной жизни. В этом ценность и «Очарованного странника», где реалистически изображены быт и нравы казахов, воссозданы живые образы кочевников. По мнению Горького, «как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров.
В аспекте исследуемой проблемы нам представляется интересным отметить, что некоторые стороны жизни казахов, в частности, их устное поэтическое творчество не остались без внимания и такого крупного русского писателя, как Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852 — 1912).
Его «особенно интересовало и волновало... положение... народностей», населяющих окраины России. Еще в своих ранних очерках «От Урала до Москвы» («Русские ведомости», 1881—1882 гг.) писатель глубоко возмущался «преступной политикой царизма, обрекавшего многие народы на истребление», и считал, что «вопрос о судьбах населяющих Сибирь инородцев представляет капитальную важность».
Творчество Мамина-Сибиряка получило высокую оценку В. И. Ленина. «В произведениях этого писателя,— отмечал Владимир Ильич,— рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так. характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России».
Путешествуя по Уралу, Мамин-Сибиряк занимался собиранием сказок, легенд, поверий, песен и других произведений устного творчества местных народов. Наряду с этим его интересовали вопросы этнографии и «вообще бытовой обстановки... обширного и разнообразного края.
Восхищаясь героями произведений Мамина-Сибиря-ка, А. П. Чехов писал: «Когда, читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей — сильных, ценных, устойчивых черноземных людей — то как-то весело становится. В Сибири я встречал таких, но, чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти среди них. Тоже и язык. У нас народничают, да все больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие. Я знаю одного писателя-народника, так он, когда пишет, усердно роется у Даля и в Островском и набирает оттуда подходящих «народных» слов. А у Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит и других не знает».
Казахской тематике Д. Н. Мамин-Сибиряк посвятил несколько произведений. Это так называемые «киргизские» легенды—«Баймаган», «Слезы царицы» (1891), «Лебедь Хантыгая» (1891), «Майя» (1892), в которых писатель, по его же словам, использовал заимствованные им «язык, восточные обороты речи и характерные особенности в конструкции самой темы. Затем из истории взята... основа легенды о Кучуме...». Помимо легенд, сюда примыкают очерк «На кумысе» (1891), повесть «Охонины брови» (1892), рассказы «Исповедь» (1894), «Ак-Бозат» (1895).
Баймаган—-главный герой одноименной «легенды», бедный пастух, влюбленный в Гольдзейн, дочь богача Хайбибулы, который, намереваясь жениться на «молодой», запрашивает за дочь огромный калым: сто лошадей и пятьсот рублей. Баймаган «часто видел во сне... проклятых сто лошадей», а «деньги даже искал у себя под изголовьем». Но не сбылись мечты пастуха. Он не пошел/ по пути Хайбибулы, который воровал лошадей, сбывал краденый скот и тем разбогател, а вынужден был жениться на Макен, дочери бедняка.
«Баймаган» нельзя безоговорочно отнести к жанру легенды. Скорее, это рассказ, сюжет которого почерпнут из жизни казахского народа. Да и конец его противоречит типичной концовке легенды: бедный пастух женится на дочери бедного пастуха, что вполне реально, а богатая Гольдзейн остается по-прежнему любимой героем... в мечтах.
В этом произведении Мамин-Сибиряк использовал много казахских слов, терминов и имен; впервые введя их в русскую литературу, дал им развернутые пояснения. Так, слово «кош» (вернее—«кос».— К. К.) писатель объяснил следующим образом: «Кош — круглая киргизская палатка из войлока»; «баранчук (искаженное от «бала») — ребенок, дитя»; «салма — лапша из конины», «курпе — стеганое одеяло», «батыр — богатырь» и др.
В «легенде» отчетливо и выпукло изображены бедняки-пастухи Баймаган и Урмугуз. Первый — мечтатель, поэт-импровизатор, смелый и добрый человек. Но ни его ум, ни благородные мысли не имеют цены, поскольку даже Урмугуз убежден, что у бедняков не может быть никаких мыслей.
Контрастен доброму Баймагану богач Хайбибула, конокрад, старый, коварный и жестокий человек. Даже на родную дочь он смотрит лишь как на предмет продажи.
Менее четко обрисованы образы девушек — Гольдзейн и Макен, но ясно представляется старая Ужина, робкая, покорная, подчинившаяся своей нелегкой судьбе.
Правдивость и жизненность сюжета произведения бесспорна.
В очерке «На кумысе» с большой теплотой нарисован портрет казахской девушки. У нее были большие темные глаза «с писаной бровью». Матово-смуглое, с слегка выдающимися скулами лицо «эффектно» оттенялось смолью черных волос. Одета она была в красное платье, поверх которого был накинут пестро-шелковый бешмет. Нашитые на одежде девушки серебряные монеты позванивали при ее движении. На обращение русских она «чуть-чуть улыбнулась».
Ее отец был толстый человек со скуластым лицом, узкими глазами и жидкой бородой. Одет он был в длинный бешмет из черного ластика, на голове фиолетово-бархатная тюбетейка. Он «походил»... «на духовную особу» и на людей смотрел со «смесью простодушия и хитрости».
и Подробно описывается юрта. Не только внешней формой, но и внутренним убранством («где все было устроено с таким удобством») понравился русскому писателю «кош» Баймагана, как Геродоту, завидовавшему «подвижным домам кочевавших скифов».
Как известно, Мамин-Сибиряк создал довольно большой цикл художественных произведений, посвященных детям. И в очерке «На кумысе» писатель дал небольшую сценку, связанную с казахским ребенком. Пока русские гости пили кумыс, «спавший маленький степняк проснулся и с детским кокетством улыбался из-под своего курпе; переливавшая кумыс мать любовно поглядывала на будущего батыра и тоже улыбалась».
У хозяина «коша» Баймагана «в обращении» с русскими «кумысниками», то есть с лицами, употреблявшими кумыс, было «что-то джентльменское». Писателю нравились его «простота» и «достоинство».
Мамин-Сибиряк характеризует общество кумысников (сравните—«водяное общество» у М. Ю. Лермонтова в «Герое нашего времени»). Среди них был учитель Егор Григорьевич, знавший казахский язык и ставший «прекрасным переводчиком» писателя в его общениях с местным населением. Со знанием описана и процедура приема кумыса.
В очерке, как и в других произведениях Мамина-Си-биряка на казахскую тему, выражено сочувствие бедным казахам («бедные-разбедные киргизы»), которые нещадно эксплуатировались чиновниками царской администрации.
В легенде «Лебедь Хантыгая» (1891) писатель обращается к сложному философскому вопросу о смысле жизни. Герой легенды престарелый хаким (учитель) Бай-Сугды, прозванный за свой поэтический дар «лебедем государства Хантыгай», покидает родину в поисках ответа на мучивший его вопрос. Он встречается с известными мудрецами, которые по-разному определяют смысл жизни. Наконец, в далекой стране «лебедь Хантыгая» встречает другого хакима, жившего в шалаше из пальмовых веток, который разъясняет, что «правда жизни — в совести» и ее «смысл совсем не в том, что ты будешь есть или во что будешь одеваться. Голодный и голый человек не сделается справедливее оттого только, что он гол и голоден».
После этой встречи поэт Бай-Сугды возвращается на родину, чтобы петь своему народу, ибо «каждая слеза, осушенная... песнью, и каждая улыбка радости, вызванная ею — такое счастье, о котором не смеют мечтать и ханы». Так писатель оценил значение песни в жизни народа.
Центральное место в легенде «Майя» (1892) занимает страстная любовь хана Сарымбета к пленнице-кра-савице Майе, которую он пощадил в кровавой сече. Долго добивался он ее взаимности. Но память Майи о необычной жестокости хана, проявленной им в бою по отношению к старикам, женщинам и детям, оказалась сильнее ее ответного чувства. Счастье их было кратковременным, потому что, утверждает писатель, любовь и насилие несовместимы. Даже долгие годы отшельничества не искупили вины хана за содеянное.
В рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка «Исповедь» (1894 г.) повествуется о трагической гибели в степи во время бурана золотопромышленника Голохватова, его «жалкого приживальца» Легашова, по прозвищу Иван Дурак, и кучера-казаха Абдулки.
Голохватов, убедившись в безвыходности положения и понимая смертельную опасность, нависшую над ним, исповедуется перед стариком Иваном Дураком. Он говорит: «Весь грешен... Места живого нет. Завидовал, кто сильнее был меня, обижал, кто слабее, и все мне было мало... Все хотел нахватать больше, а под старость покаяться... Сирот не жалел, отнял наследство у двух племянниц и их же теснил за свою неправду». Орудовал золотопромышленник в казахских степях Оренбургского края, где «обманывал в степи малоумных киргизишек, а они мерли от голоду и холоду» из-за его зверств. Таковы признания этого матерого человека-волка.