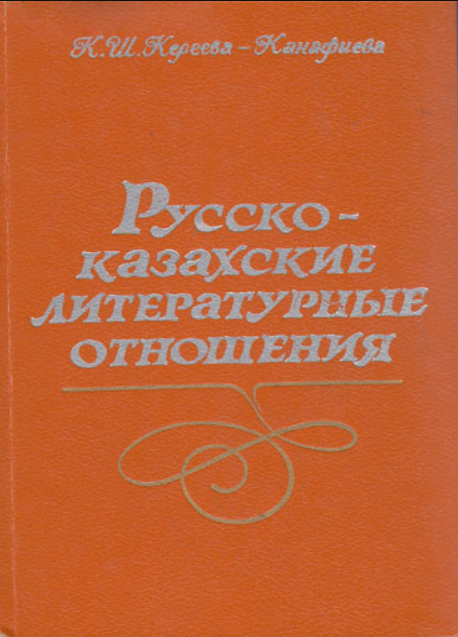Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 15
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Повесть имеет большое познавательное значение: на фоне занимательных событий автор знакомит читателей с природой, животным миром, особенностями быта и нравов среднеазиатских народов. Он подробно описывает конские скачки (байга), свадьбу, игры молодежи и др.
О том, что Верный (Алма-Ата) в конце прошлого века стал крупным торговым центром, П. Инфантьев дает понять по описанию многочисленных караванов на улицах города, около которых находились узбеки, таджики, киргизы (кара-киргизы — по автору), казахи (киргиз-кайсаки). Иногда можно было встретить и афганцев в черных, остроконечных бараньих шапках, а также калмыков с длинной, висящей позади косой. В городе начали появляться и русские торговцы (16).
П. Инфантьев считал, что у казахов для каждого зверя имеется особая охотничья птица: на волков и лисиц— беркут и орел, на горных коз, сайгаков, дроф и лебедей — сокол, на уток и гусей — ястреб (96). Автор утверждал, что русские бояре и князья соколиную охоту «заимствовали» у казахов (95). Последних он характеризовал как добродушный и гостеприимный народ (57).
Для придания произведению инонациональной окраски автор широко использует казахские слова, подстрочные переводы которых даны им вполне правильно. Так, слова: «якши, бик якши», «джигит», «чапан», «пилав», «ак су», «дастархан,» «кумыс» и другие переведены автором с использованием адекватных русских слов: «хорошо», «очень хорошо», «юноша-наездник» и т. д.
Некоторый интерес представляет и рассказ П. Ин-фантьева «Беркут Галея». В нем создан привлекательный образ охотника, которого в степи знали как веселого, беззаботного джигита. Все богатство Галея заключалось в серой лошади и беркуте. С помощью птицы охотник добывал шкурки хорьков, куниц, лисиц, горностаев и сбывал их на базарах Орска и Оренбурга. Его знали от Троицка до Семипалатинска, часто видели в Тургае и Акмолинске. Предметом особой зависти казахов-охот-ников был необыкновенный беркут Галея. Сам он был желанным гостем не только в казахских аулах, но и в казачьих станицах. Галей говорил «совершенно чистым русским языком», беседуя с казаками. Благодаря постоянным разъездам по степи, он «всегда имел... целую кучу» новостей в запасе и умел их рассказывать. Жил он бобылем, летом постоянно кочевал по степи, зимовал на Тоболе, где жил в деревянной юрте.
Однажды охотничья тропа привела Галея в аул бия Карабая, который предложил джигиту взамен беркута скакуна. Но Галей отказался от всех предложений. Приглашенный в гости в юрту Карабая, он познакомился с дочерью бия Фатьмой. У молодых возникло взаимное чувство. Убедившись, что Карабай не согласится на их брак, они решили тайно бежать. Но бий, будучи страстным охотником, пожелал во что бы то ни стало заполучить беркута. Он вновь пригласил юношу и в присутствии гостей предложил ему тамырство, которое, как писал автор, похоже на куначество у кавказцев. И нет такой жертвы, которую отказался бы принести тамыр тамыру.
Этим старым обычаем решил воспользоваться и хитрый Карабай, чтобы овладеть заветным беркутом. В присутствии всех они совершили обряд, скрепивший их вечную дружбу. И с этих пор Галей потерял надежду сделаться когда-либо мужем Фатьмы, потому что он не мог нанести оскорбление своему тамыру Карабаю ухаживанием за его дочерью. Чтобы не видеть возлюбленную, джигит откочевал далеко от аула Карабая. И все же Карабай разыскал в степи Галея и на правах тамыра потребовал беркута, как калау (подарок). Галей вынужден был уступить птицу. Старый Исчан открыл глаза молодому охотнику на хитрость богатого Карабая, который ради беркута пошел даже на такой шаг, чтобы стать та-мыром нищего охотника.
Этим также решил воспользоваться и Галей: в присутствии многих знатных гостей джигит потребовал, как калау от своего тамыра... его дочь Фатьму. Карабай был вынужден дать согласие на брак дочери с Галеем.
В рассказе создан привлекательный образ честного, веселого и мужественного человека, живущего своим трудом. Однако бесхитростный и добродушный Галей находился во власти обычаев и обрядов своего народа.
Психологически более сложным показан бий Карабай, который с первой встречи с Галеем поставил перед собой цель любыми средствами, не брезгуя хитростью и обманом, приобрести беркута. Однако и Карабай во власти твердо установившихся обычаев в степи: получив дорогой калау, он вынужден был отдать дочь, чтобы не прослыть нарушителем обычая тамырства.
П. Инфантьев ввел и в этот рассказ много казахских слов и терминов (аул, калау, джигит, калым, апайка, арума, бий, тюря, кобыз, туй, куйрюк-баур, байга), переводы которых даны довольно удачно. В иллюстрациях им показаны сцены охоты с беркутом, охота на волка, казахский аул и отдельная юрта.
Таким образом, в произведениях, посвященных казахам, Инфантьев дал интересные зарисовки их быта, нравов, обычаев, но особое внимание уделил двум вопросам: просвещению казахов, их крепнущей дружбе с русскими.
Подводя итоги, можно сказать следующее. Казахская тематика во второй половине XIX в. вошла не только в той или иной степени в творчество классиков русской литературы (Аксаков, Михайлов, Лесков, Мамин-Сибиряк, Успенский, Толстой, Короленко, Достоевский), но стала ведущей в художественных произведениях о Туркестанском крае большой группы прогрессивных русских писателей (Н. Каразин, Н. Ильин, Н. Уралов и др.), чьи непосредственные наблюдения за жизнью коренного населения сохранили и по сей день свою познавательную ценность. Следовательно, диапазон освещения темы о жизни казахского народа в русской литературе был довольно широк. В этом следует видеть определенную преемственность в разработке казахской тематики, которая взяла свое начало от Державина, Пушкина, Даля и постепенно выросла в замечательную традицию в русской художественной литературе.
ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ О КАЗАХАХ Е. КОВАЛЕВСКОГО, Д. ИВАНОВА И ДРУГИХ
Особое место в серии литературных произведений, посвященных русско-казахским отношениям, занимают путевые очерки. И. А. Гончаров, объясняя их успех, указывал, что описания дальних стран, их жителей, роскоши тамошней природы, особенностей и случайностей путешествия и всего, что замечается и передается путешественником — каким бы то ни было пером,— все это не теряет никогда своей занимательности для читателей всех возрастов. К. Паустовский утверждал, что «факт, поданный литературно, с опусканием ненужных деталей и со сгущением нескольких характерных черт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол».
Русские ученые и путешественники, писатели и художники создали значительное количество путевых очерков о казахах, их быте и обычаях, о природе края. Казахские степи для петербургского общества представляли далекие окраины. Поездки туда носили характер сложных, а порой и опасных путешествий. Но не каждому, из «дальних стран возвратясь», удавалось создавать художественно правдивые очерки. Между тем последние неизменно привлекали внимание читающей публики, поскольку, по выражению Н. Г. Чернышевского, именно они удовлетворяли самые разнообразные вкусы. Очерки тех лет, по мнению критика, содержали в себе элементы многих жанров: отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, отчасти естествознание...
В очерках на казахскую тему авторы делились не только своими наблюдениями, но и нередко высказывали личное отношение к тем или иным событиям, происходившим в степях. В некоторых из них авторы не ограничивались лишь «лирическим самовыражением» о судьбах казахов, а выступили смело, резко, используя все приемы, присущие публицистическим разновидностям этого жанра. Именно в путевых очерках русские ученые и писатели наиболее полно отражали свое видение мира казахов, отношение к сложным проблемам жизни и быта этого народа.
Объединяющим началом, философской основой очерков о казахах являлась идея цивилизации и просвещения их в рамках единого государства. С позиции гуманизма передовые русские писатели и ученые защищали интересы казахского народа, выступая против политики царизма в казахских степях.
Определенный вклад в развитие русско-казахских литературных отношений внес Егор Петрович Ковалевский (1811—1868) — видный писатель, известный путешественник и общественный деятель. В биографическом очерке к собранию его сочинений (Спб., 1871) отмечено, что писатель принадлежал к разряду умов быстрых и восприимчивых.
Е. П. Ковалевский прошел сложный жизненный путь. Родился он в деревне под Харьковом. В этом имении отца, екатерининского бригадира и патриархального небогатого помещика, прошло его детство.
В годы учебы в Харьковском университете Ковалевский написал трагедию «Марфа — Посадница Новгородская, или славянские жены». К первым литературным опытам относится и неизданная книжка, написанная белыми стихами.
Однако после окончания университетского курса жизненный путь Ковалевского получил неожиданный поворот: он попал на Алтай, где его старший брат был главным горным начальником. Вскоре младший Ковалевский надел форменную одежду горного специалиста. В эти же годы на страницах журнала «Библиотека для чтения» появились его первые очерки о жизни золотопромышленников и рабочих на приисках, привлекшие к себе внимание читающей публики свежестью впечатлений и меткостью описаний.
В 1839 г. Е. П. Ковалевский в качестве горного инженера был командирован в Черногорию, для разведки золота. Неожиданно возникла угроза войны из-за нападения Австрии. С большим трудом удалось заключить мир. В этой акции активное участие принимал молодой горный инженер Ковалевский. Здесь впервые ярко проявились его дипломатические способности. Вскоре в печати появилась его первая книга «Четыре месяца в Черногории», благожелательно принятая критикой и публикой.
Многочисленные и длительные поездки в различные страны дали писателю богатый материал для создания серии самобытных и ярких очерков. Последние были оригинальны по форме, отличались живописностью в изложении, юмором и меткой наблюдательностью автора.
Первая небольшая книжка рассказов и очерков Е. П. Ковалевского «Странствователь по суше и морям» (1843—1845), изданная самим автором, получила единодушную положительную оценку журналов и газет. Критики с восторгом писали о таланте путешественника-писателя.
В 1848—1849 гг. на страницах журналов «Современник» и «Отечественные записки» появились путевые очерки и статьи Ковалевского, посвященные его поездке по странам Северной Африки. Успех этих очерков был определен не только изящным слогом автора, но прежде всего четкой его позицией против массового неравенства африканского населения (статья «Негриция» и др.). Понятие «о русских белых рабах» было очень созвучно и близко известному тезису В. Г. Белинского о положении «белых негров», впервые упомянутом в его «Письме к Н. В. Гоголю», которое широко распространилось по России, в том числе и среди петрашевцев — друзей Ковалевского. Н. Г. Чернышевский писал в своем дневнике 2 февраля 1849 г.: «Прочитал «Негрицию» Ковалевского — весьма понравился он за то, что так говорит о неграх, что они ровно ничем не хуже нас, с этим я от души согласен».
В конце апреля 1849 г. основная группа петрашевцев была арестована и посажена в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Ковалевский был в дружеских отношениях со многими из них. Сам же он был задержан на границе с Китаем, куда выехал в мае 1849 г. по поручению правительства. Возможно, ему удалось избежать ареста случайно, лишь из-за бюрократизма соперничавших ведомств: политической полиции (жандармерии во главе с графом Орловым) и Азиатского департамента министерства иностранных дел. Находясь уже в Китае, Ковалевский узнал о трагической судьбе петрашевцев: их судили и приговорили к ссылке в Сибирь.
После Китая Ковалевский посетил Балканы, где принял активное участие в освободительной борьбе балканских народов, а затем вступил в ряды защитников Севастополя. Крымскую войну и события на Балканах писатель переживал чрезвычайно остро, зная подлинную роль царизма и понимая свое бессилие. Поэтому, возвратившись в 1855 г. в Петербург, Ковалевский производил впечатление человека, который всегда хандрит. Так, в своих воспоминаниях А. А. Фет писал: «В нашем шумном и веселом кружке (речь идет о группе литераторов, объединившихся вокруг «Современника» в 50-х годах.— К. К.) особенно выделялся своей молчаливостью и бледностью в то время уже седой генерал-майор Егор Петрович Ковалевский... Он, очевидно, мучительно хандрил, сквозь эту хандру каждому слышалась бесконечная доброта этого человека».
Так называемая «хандра» Ковалевского имела основательные причины. Он не мог забыть трагическую историю петрашевцев. Об этом свидетельствует и письмо Некрасова к Тургеневу, посланное из Парижа 26 мая 1857 г., в котором поэт писал: «Кланяется тебе Ковалевский (весной того же года он выехал за границу для лечения.— К. К.) и ждет тебя нетерпеливо. Я ему поклонился до земли, ты, верно, то же сделаешь, когда узнаешь, что освобождение Бакунина --дело нашего генерала... Ковалевский говорит, что из Омска теперь легко и скоро можно будет передвинуть Бакунина. Достоевский и пр. прощены. Наверное и даже Спешнев».
Значительное влияние оказал Ковалевский и на судьбу Т. Г. Шевченко, который после своего возвращения из ссылки ходатайствовал о снятии запрета на публикацию его книг «Кобзарь» и «Гайдамаки». Благодаря содействию Ковалевского великий украинский поэт получил возможность опубликовать некоторые свои ранее запрещенные произведения.
В 1855 г. в осажденном Севастополе состоялось знакомство Ковалевского с Л. Н. Толстым. В последующем их дружеские отношения поддерживались в Петербурге. Л. Н. Толстой не раз обращался с просьбами к Ковалевскому, занимавшему с 1856 г. высокий пост директора Азиатского департамента министерства иностранных дел: и тогда, когда он хотел получить отставку от военной службы, поскольку она стесняла его, и тогда, когда писатель добивался одобрения правительством разработанного им проекта Общества народного образования и т. д.
Е. П. Ковалевский относился с огромным уважением к Н. А. Некрасову, И. С. Тургеневу, он был связан также с поэтом Ф. И. Тютчевым, писателями В. Ф. Одоевским, И. А. Гончаровым и др. По воспоминаниям современников, у Ковалевского, «как у племенной матки», собиралась вся «литературная братия» Петербурга.
В 1859 г. в Петербурге возникло Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым (впоследствии «Литературный фонд»). Ковалевский был избран председателем его распорядительного комитета. По данным Б. А. Вальской (1966), в организации Литературного фонда приняли участие такие крупные писатели России, как Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, М. Л. Михайлов, А. Н. Островский, В. Ф. Одоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин и др. По рекомендации Ф. М. Достоевского членом Общества был избран Ч. Ч. Валиханов. Следует отметить, что виднейшие петербургские писатели во главе с председателем распорядительного комитета Литературного фонда Е. П. Ковалевским сумели вызволить из крепостной зависимости двух братьев, сестру и других родственников Т. Г. Шевченко — всего 11 человек. Все это было совершено еще до отмены крепостного права.
Общество имело гораздо более широкое значение, чем оказание помощи нуждающимся писателям и ученым. Оно выполняло роль своеобразного «центра соединения» или, иначе говоря, неофициального союза русских писателей.
Е. П. Ковалевский известен как крупный ученый-этнограф, он имел долголетние общие научные интересы со многими русскими востоковедами: X. Д. Френом, П. С. Савельевым, А. С. Норовым, П. И. Кафаровым, И. И. Захаровым, К. А. Скачковым, О. М. Ковалевским, Н. А. Ханыковым, И. Н. Березиным и др.
Для нас большой интерес представляют факты о наличии определенных взаимоотношений между Е. П. Ковалевским и Ч. Ч. Валихановым. Как руководитель Азиатского департамента России, он внимательно следил за поездкой Валиханова в Кашгарию и убедился в том, пто получить необходимые сведения о Восточном Туркестане мог лишь человек, подобный Валиханову.
Таким образом, передовые взгляды Е. П. Ковалевского как писателя были предопределены его многосторонними и многообразными связями с замечательной плеядой выдающихся деятелей России. Это нашло свое выражение и в серии его гуманистических очерков о казахах.
Из богатого литературного наследия Ковалевского наше внимание привлекают очерки, включенные в сборник «Странствователь по суше и морям» (1845—1849) прямо или косвенно посвященные казахам. Так, в рассказе «Зюльма, или женщина на Востоке», где речь идет в основном о жене правителя Ташкента, имеются упоминания о баранте, дорожной казахской кибитке «джюлме», о том, как султан Букей угощал автора в юрте старшей из своих жен.
В очерке «Несер-улла Бахадур хан и Куч-беги», посвященном жизни Бухары, автор пишет о трехмесячном странствовании по степи, где не встретилось ни жилья, ни деревца, где все исчахло под знойными лучами солнца.
Значительный интерес представляют зарисовки жизни и быта казахов в очерках «Экспедиция на пути в Бухару и военная экспедиция, действовавшая против Хивы (1839— 1840 год). Киргиз-казачья степь». Экспедиция в Бухару, которую, возглавлял Ковалевский, состояла из 14 человек и шла при купеческом караване. Она выступила из Оренбурга за несколько дней до выхода военного отряда, направленного против Хивы. В течение некоторого времени экспедиция находилась в Больших Барсуках, аулах чикенского рода. Автор впервые видел пеструю и занимательную картину откочевки. С вечера, накануне, в ауле обычно спокойно и беззаботно, но с раннего утра он. приходит в движение: мужчины вихрем носятся по степи, старшины отыскивают воду и удобные пастбища сторожевые выглядывают барантовщиков, которые предпочитают нападать именно во время перекочевки; иные собирают стада. Между тем, продолжает автор, бедные женщины снимают юрты, вьючат верблюдов, укладывают на них детей и маленьких ягнят. Потом и грязью покрываются они в этой изнурительной работе. Зато после нее женщины наряжаются в лучшие свои платья, садятся на убранных коней. Длинная вереница верблюдов кочующего аула выступает под прикрытием одних женщин, поскольку мужчины не любят тащиться в шаг верблюда. Этим-то пользуются барантачи, которые лихо налетают и отхватывают навьюченных верблюдов, лошадей, стада овец и уводят женщин.
После многих переходов экспедиция достигла аулов Утурали — старого казаха, но еще бодрого и здорового. Черты его лица, нависшие седые брови свидетельствовали о принадлежности к простому народу, «черной кости», хотя его внутреннее достоинство чувствовалось во время беседы. Утурали пользовался совершенным доверием правительства России. Но он вынужден был считаться и с Хивой, не возбуждая ненависти и враждебных действий последней. В этой сложной обстановке Утурали проявлял недюжинные дипломатические способности, что свидетельствовало, по мнению автора, о его уме. Среди казахов он пользовался непререкаемым авторитетом.
В помощь русской экспедиции Утурали дал в качестве вожатого своего любимого сына Нияза. Однако его переговоры с русскими проходили в секретной обстановке, чтобы об этом не узнал хивинец Науман. На оскорбительное замечание, что Утурали держит стремя, когда Науман садится на коня, почтенный старец отвечал с достоинством: «Мудры твои речи, но и в моих есть смысл: скорее Науман станет держать стремя моего седла, чем я его». Утурали дал дельный совет русским, чтобы избежать встречи не только с хивинцами, но и с «шайкой Кенесары или его тестя».
Поражался Ковалевский быстроте передачи вести в казахской степи. Он писал: «Весть — залетная птица в киргизской степи». Действительно, жадные к новостям кочевники устраивали пир в честь приезда вестника как дорогого гостя и потом скакали в другой аул, чтобы разделить новый пир и нередко получить «суэнчу» (вернее: сюинші.— К. К.)? то есть подарок за радостную весть. Автор с удивлением писал, что степные вести и рассказы, «переходя через тысячи уст, сохраняют удивительную неизменяемость» (53).
Ковалевский передал свое яркое впечатление от встречи с одним «таинственным», но замечательным в кругу своего народа казахом, который при знакомстве с русскими просил не спрашивать его имени, пока не узнают его лично. Хотя это и не понравилось русским, однако «хитрый» казах умел «искусно вывести разговор из колеи обыкновенных предметов» и вскоре обнаруживал свой ум и красноречие. Он приводил для своих доводов подлинные тексты Корана, «толковал их не теми софизмами и общими местами, которые избиты в медресе Бухары и Самарканда, но сообразно собственным понятиям, выказывавшим глубокое изучение предмета» (57—58). Коснувшись некоторых правительственных лиц в Оренбурге и Петербурге, спрашивая о переменах в образе управления, «хитрый» казах умел привлечь к себе любопытство русских. Разговор зашел о положении экспедиции—и здесь таинственный кочевник сумел «накинуть на него самую мрачную тень» (58).
Хитрым, умным и красноречивым собеседником оказался Мугамет Эвтимишев. Когда-то он был старшим советником при хане Джангире во Внутренней орде. Когда племянник хана Каип-Галий поднял мятеж, домогаясь власти, Мугамет поддержал его. Вскоре Эвтимишев сделался «главою и двигателем мятежа», который был подавлен отрядом правительственных войск. Каип-Галий был схвачен, но бежал из Оренбургской тюрьмы и присоединился к движению батыра Исетая (Исатая.— К. К.). Сюда же прибыл и Мугамет, ставший «душою и путеводителем Исетая» (59). Движение было жестоко подавлено объединенными силами местных феодалов и царских войск. Эвтимишеву вновь удалось спастись. И вот теперь он сидел среди русских и просил взять его в экспедицию, чтобы заслужить прощение правительства.
Важно подчеркнуть, что Ковалевский исторически достоверно передал события конца 30-х годов XIX в., то есть периода антифеодального и антиколониального восстания казахского крестьянства 1836—1837 гг. во главе с Исатаем (у Ковалевского — Исетай) Таймановым и Махамбетом Утемисовым (у Ковалевского —Мугамет Эвтимишев). Совершенно правильно указал Ковалевский и на роль султана Каип-Галия Ишимова. Исатай был убит в 1838 г., а поэт Махамбет, чьим умом и красноречием так восхищался Ковалевский, в 1839 г. действительно вел переговоры с русскими властями, просил помилования.
Ковалевский дал прекрасное по своей поэтичности описание степи, сравнивая ее с безграничным, взволнованным морем... А барантовщиков автор сопоставлял с «опытными корсарами... сухого моря» (68) . Силу их нападения пришлось испытать и русской экспедиции на пути в Бухару.
Достигнув предгорий каменистой пустыни Усть-Юрта, автор обратил свои взоры на равнину, почти лишенную растительности: лишь изредка виднелись тощие кустарники и полынь. Здесь путешественник встретил две-три кибитки, низкие, закоптелые, ветхие. От них исходил ужасный запах. Над кибитками не вился дымок, около них не бродил скот. Только протяжный вой собак нарушал безмолвие. Так жили сайгачники-охотники. Ковалевский далее писал, что «сайгачники самый несчастный народ в степи; они беднее и жальче тамошних рыбопромышленников (вернее, рыбаков.— К. К.). Те и другие бывают доведены до своего состояния только совершенной нищетой» (74).
Ковалевский отмечал, что пока у казаха «остается одна овца, он кочует с нею, он счастлив» (74). Но казахские рыбаки и сайгачники уже «прикованы к своему месту; для них нет кочевки, нет более радостей в мире». И если поселения казахских рыбаков располагаются у моря или реки и посещаются людьми, то сайгачники живут в диких и уединенных местах и изолированы от мира. Автор вместе с Ниязом посетил бедное жилище сайгачника. В нем было пусто и холодно. Единственный жилец его — старик лежал на невыделанных шкурах и почти не обратил внимания на посторонних. Его тело было покрыто струпом и язвами. Старик находился в состоянии полнейшей апатии к жизни и смерти.
В очерке «Английские офицеры в Средней Азии» (89—103) Ковалевский привел эпизод, связанный с пленением английского офицера, капитана артиллерии Аббота казахским батыром Исетом.
Исету не было еще 20 лет от роду, когда он в степи приобрел славу и уважение, хотя и принадлежал к «черной кости». Ковалевский отмечал, что был он сложен как Геркулес; Его атлетическое телосложение, «дикая» красота и приемы, полные отваги, удивляли не только европейца, но оказывали сильное влияние и на его соотечественников. О его беcстрашии и силе в степи ходило много рассказов. Так, однажды Исет увидел «в улусах Куль-Мухамета» его дочь и был поражен красотой. Но вскоре батыр забыл ее. Через год-два роды Куль-Мухамета и Исета поссорились. Отношения прекратились. Как-то к Исету приехал купец, сообщивший, что Куль-Мухамет выдает дочь замуж. Уязвленный батыр решил выкрасть девушку. С двумя верными друзьями он в темную ночь добрался до аула Куль-Мухамета. Припав к земле, дополз до юрты и похитил невесту... На заре увидел, что у него на руках полуживая старуха... Батыр возвратился в взбудораженный аул и смело увез красавицу.
...Английский офицер был ограблен, избит и изранен. Сопровождавших его афганцев «разобрали» сподвижники Исета. Жизнь самого Аббота висела на волоске, но подоспевшие туркмены выручили его и проводили в Ново-Александровское укрепление. А оттуда через Оренбург— Петербург он возвратился в Лондон.