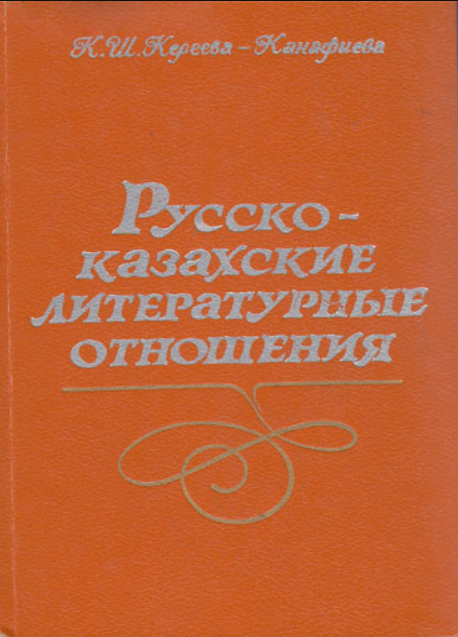Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 5
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
А кучер-казах Абдулка, как кличет его хозяин, показан в рассказе покорным судьбе человеком. Он суеверен до фанатизма. Сбившись с дороги во время бурана, он говорит сидящим в возке: «Большой шайтан играет». По велению Голохватова, пытавшегося выбраться из снежной метели, Абдулка идет впереди лошадей, которых под уздцы ведет хозяин. Окоченевшими руками кучер распрягает измученных лошадей и садится около них на корточки. Затем забирается в возок, но беспрекословно покидает его по настоянию хозяев. Абдулка идет на верную смерть. Но разбушевавшаяся стихия не пощадила никого. Погибли люди, лошади и приставшая к ним маленькая собачка.
Значительный интерес представляет и другой рассказ Мамина-Сибиряка «Ак-Бозат» (1895), где реалистически показаны социальные условия жизни в казахской степи.
В 1895 г. в журнале «Русская мысль» (№ 11) рецензент писал: «Рассказ «Ак-Бозат» взят из киргизского (казахского.— К. К.) быта и представляет одновременно и этнографический очерк, и тонкий психологический анализ, настроение, которое испытывает страстный наездник при потере коня, которого он любит больше всего на свете,— и интереснейший по разнообразию приключений и сцен рассказ, который проникнут живым юмором и читается с одинаково жадным интересом от начала до конца».
В центре рассказа образ степного богача молодого Бухарбая, растерявшего отцовское наследство и превратившегося в нищего («байгуша», как пишет Мамин-Сибиряк). По совету матери он уходит далеко от родных мест и нанимается пастухом к незнакомому казахскому баю. От былого богатства у Бухарбая остался жеребенок, которого еще отец назвал Ак-Бозатом (имя лошади писатель перевел как «Звезда»), Жеребенок был «рожден от кости Исек-Кыргана» («Вечерняя зарница»— так перевел автор) и должен был суметь своему хозяину доставить честь и славу. Хозяин имел дочь красавицу Мечит. Она, как и все казахские девушки, отмечает автор, была смелой и ходила без покрывала. Девушка-то и приметила, что Бухарбай не простой пастух. Но за три года суровой пастушеской жизни, когда бай «давал своим пастухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду», резко изменилась его внешность: «загрубели руки... заветрело лицо». Поэтому дочь бая перестала обращать на него внимание.
Но случилось так, что Бухарбай со своим Ак-Бозатом — единственной его отрадой в трудные годы жизни — участвует в байге (скачках). Придя первым, нищий пастух получает право называться женихом Мечит. Но богач, изменив своему слову, требует большого выкупа(калыма) за дочь. А когда слава Ак-Бозата распространилась по степи, то скупой бай согласился отдать дочь за пастуха, чтобы заполучить эту лошадь.
Когда Бухарбай после долгих раздумий решил отдать лошадь богачу взамен красавицы Мечит, в этот момент Ак-Бозата угоняет вор. Погоня была безуспешной. И хотя Бухарбай все-таки женился на Мечит, это не принесло ему счастья. Он бросает семейный очаг, молодую жену и пускается на розыски Ак-Бозата. Вскоре в народе стал идти слух, что по степи «бродит сумасшедший джигит и все ищет какую-то белую лошадь» (95). Безуспешные поиски ее продолжались долго. Наконец, тело несчастного было найдено у степного колодца: «Он прижимал окоченевшими руками к груди свою белую войлочную шляпу» (95). Такова трагическая судьба человека, который до дна испил горькую чашу унижений и нищеты и в довершение ко всему лишился единственного утешения и друга — умной и доброй лошади.
В этом рассказе, пожалуй, более, чем в других произведениях Мамина-Сибиряка, посвященных казахам, реалистически передана картина быта кочевого народа. С одной стороны, показана необыкновенная роскошь: «В поле... раскинута зеленая бухарская палатка», «вся грудь» красавицы Мечит «покрыта золотыми монетами». С другой стороны,— пастушья дырявая и грязная кибитка, в которой живет Бухарбай.
Интересы богатых защищает и соответствующий институт. Это «седобородые казы (судьи)» (84), казахские «старшины из разных аулов» (стр. 89) и «сам бий» (89). С именем аллаха на устах («как хочет аллах, так и будет») (89), богач совершает клятвопреступление, отказывая бедному пастуху в невесте, требуя за нее огромный калым.
Но и бедного пастуха и хозяина-богача, имевшего три косяка лошадей, «объединяет» одна страстная любовь к необыкновенной лошади Ак-Бозат, ибо, как пишет автор, какой же казах может себя считать счастливым без нее? («Какой же киргиз без лошади?») (85).
Сюжет рассказа позволяет автору раскрыть картину подлинного социального неравенства в казахском ауле.
Образы представителей казахского народа, особенности его быта и нравов запечатлены и в других произведениях Мамина-Сибиряка. В повести «Охонины брови» привлекает внимание эпизод, возможно, имевший место в ранний период русско-казахских отношений. Дьячок Арефа рассказывает, что его три раза посылали в «орду» (казахские степи.— К. К.) «на неводьбу» и все сходило благополучно. А когда Арефа вновь поехал на степные озера, то с ним увязалась и дьячиха. Путники благополучно добрались до озера, где прожили целую неделю. Но однажды ночью на них «наехали» кочевники, один из которых дьячка «копьем к земле приколол», а другой «ухватил дьячиху и уволок». Через полгода дьячиха «выворотилась» из степи. Но «отяжелела в орде... дьячиха... Ну, а потом разродилась этою самою Охо-ней». О происшедшем повествует впоследствии сам дьячок, который как бы с пониманием относится к необычным нравам кочевников.
Юная Охоня обращала на себя внимание окружающих людей своеобразными внешними данными, унаследованными от отца-казаха. «Это была среднего роста девушка с загорелым и румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные сросшиеся брови — союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка».
Арефа любил ее как родную дочь, и Охоня отвечала ему тем же. Когда дьячок был посажен в «судную избу», девушка жалела отца и горько плакала.
В другом месте повести Охоня охарактеризована автором, как «проворная и могутная», смело вступившая в рукопашный «бой» с солдатами. Охоня блюдет и свою девичью честь: когда один из солдат говорит, что она «девка», девушка с гордостью заявляет: «Не девка, а отецкая дочь». Даже воевода под натиском «вострой» девушки вынужден отпустить дьячка, считая ее «удалой» (319).
Оригинальная красота девушки оказалась роковой: в ней влюбляются и юноша Герасим, постригшийся в монахи, и сподвижник Е. Пугачева казак Белоус, и престарелый воевода. После недолгой жизни с последним Охоня снова попадает в жестокие монастырские условия. Освобождает ее пугачевский атаман Белоус, чтобы свершить над ней свой суд и расправу. Так, образ Охони, дочери казаха и дьячихи, оказался в центре всех коллизий повести.
Между тем все важнейшие события происходят на фоне разгорающейся крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева: «На Яике объявился не прост человек, а именующий себя высокою персоною» (44), под знаменем которого собираются угнетенные и обездоленные. Страх перед этим движением руководит жестокими мерами со стороны игумена монастыря, воеводы и заводчика Гарусова.
Мамин-Сибиряк, как и многие известные русские писатели, проявлял большой интерес к крестьянскому движению. Его «Охонины брови» (1892)—это «историческая повесть о пугачевщине в Зауралье», «документальная и достоверная в своей основе». Вместе с тем в этом произведении писатель уделил большое внимание кочевникам (башкирам, казахам и др.), в частности, участию их в восстании под предводительством Е. Пугачева.
Умирая от бесчеловечных истязаний Гарусова, рабочий Трофим говорит: «Вот побегут казаки с Яика да орда из степи подвалит, по камушку все заводы разнесут... К казакам и заводчина пристанет и наши крестьяне» (375). Действительно, вскоре темной ночью на заводе Гарусова поднялся народ. Владелец скрылся. Со всех сторон слышались крики: «Орда валит!», «Казаки идут...» (383).
Убегая с завода, Арефа впервые слышит о человеке с «прозвищем Пугач». Молва о нем «облетела по казачьим уметам и станицам, перекинулась в орду и дошла до заводов» (387) .
Об активном участии казахов и башкиров в движении Е. Пугачева свидетельствует и следующий эпизод повести. Дьячка Арефу и заводчика Гарусова «накрыл разъезд, состоящий из башкир, киргизов (казахов,— К. К.) и русских лихих людей». Пленников привезли в казахский аул («стойбище»), откуда «навстречу вылетела стая высоких киргизских псов». «На стойбище сбилось народу до двух тысяч. Тут были и киргизы, и башкиры, и казаки, и лихие русские. Последние укрывались «в орде и по казачьим станицам» (388).
О широком размахе крестьянского движения свидетельствует бежавший из стана восставших Гарусов: «Смута разливается уже по Южному Уралу. Мятежники захватили заводы, и сами льют себе пушки» (422).
Насколько широкими были связи русских и казахов в крае свидетельствуют и те, казалось бы, незначительные детали, которые часто встречаются в повести. Так, воевода, чтобы «проучить» супругу за «поносные слова», пользуется ничем иным, как казахской нагайкой, которая у него висела на стене. В трудную минуту побега с завода Гарусова, когда «десятки рук ухватились за кобылу», дьячок сказал верному коню какое-то «заветное киргизское словечко, и кобыла взвилась на дыбы» (383—384), спасая жизнь Арефе.
Характеризуя чрезвычайную чуткость дьячка, автор связывает это с влиянием жизни в казахской степи: «Чуткое дьячковское ухо, сторожливое, потому как привык сызмала в орде беречься: одно ухо спит, а другое слушает» (385). Во время пленения дьячок вынужден был есть вместе с казаками и «ордой» «кобылятину», рассуждая, что «не сквернит входящее в уста, а исходящее из уст» (389). Опасаясь за судьбу своей кобылы, Арефа говорил, что не может вернуться к «апайке» (к жене— как перевел автор) пешком (390). Находясь среди повстанцев, он не только лечил больных, но был «у них в чести и подметные письма» писал.
Образ Арефы в повести является одним из самых привлекательных.
Другой персонаж, заводчик Гарусов, разбогател, зарезав в степи какого-то богатого казаха (369). Гарусов нещадно эксплуатировал своих рабочих, а раньше «опутывал задатками киргизов и калмыков» (370).
Автор описывает и жестокости «орды», совершавшей набеги на русские деревни (390). Он считал, что эти жестокости были «далеким откликом кровавого замирения Башкирии» при генерале Соймонове под Оренбургом (391).
Таким образом, писатель объективно показывает наличие довольно широких связей между русскими крестьянами и заводскими рабочими, с одной стороны, казахами и башкирами, с другой. Эти связи наиболее отчетливо проявились в ходе крестьянской войны, где плечом к плечу выступили трудящиеся русские, казахи, башкиры, калмыки, татары и др. Работая над повестью, писатель глубоко проникся духом времени, в ней чувствуется большое влияние народного эпоса, героических народных сказаний.
Повесть «Охонины брови» советский писатель Ф. Гладков относил к классическим созданиям Мамина-Сибиряка, а А. Груздев называл ее исторической.
«Большое общественное значение повести «Охонины брови» состоит в том, что писатель выступил с изображением народного восстания в мрачную пору царствования Александра III и тем самым содействовал активной борьбе трудящихся России с царизмом».
Таким образом, в том интересе, который, как мы видим, проявлял Д. Н. Мамин-Сибиряк к казахской теме, выражено его стремление понять психологию одного из народов России, узнать особенности его национального характера, обычаев, нравов. В этом благородном стремлении выражены гуманизм и «настоящий патриотизм» (Н. А. Добролюбов) еще одного большого русского писателя.
Глубокий анализ вопросов, имевших жизненно важное значение и для казахского народа, дал в ряде своих произведений Глеб Иванович Успенский (1843—1902).
В. И. Ленин с особым вниманием относился к творчеству этого писателя, которого считал одним из самых правдивых летописцев жизни народов России второй половины XIX в. Успенский как художник-реалист обладал «громадным артистическим талантом,— писал
В. И. Ленин,— проникающим до самой сути явлений». В произведениях писателя получили многостороннее отражение новые социально-экономические процессы, развивавшиеся в пореформенной России. Зоркие наблюдения и ценные свидетельства писателя-демократа были очень важны для В. И. Ленина.
1 мая 1902 г. ленинская «Искра» в статье «По поводу смерти Г. И. Успенского» писала, что он «неизмеримо больше всех легальных писателей 70-х и 80-х гг. оказал влияние на ход нашего революционного движения».
А. М. Горький не без основания назвал Г. И. Успенского «великим народолюбцем», который в своих произведениях выражал думы и чаяния трудового народа и, что особенно характерно, пристально следя за его судьбой, умел вовремя отметить важнейшие перемены в его жизни.
Социальные условия в России пореформенного времени породили такое массовое явление в жизни русского крестьянства, как переселенческое движение. Русская печать* широко информировала читателей о различных сторонах этого Движения. Оно глубоко заинтересовало и Г. И. Успенского.
В течение 1877—1882 гг. Г. И. Успенский публикует цикл произведений («Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли»), в которых с беспощадным реализмом показывает обнищание мужика в результате проникновения капитализма в деревню, усиления налогового бремени из-за войны 1877 — 1878 гг., голода, вызванного неурожаем в 1879 и 1880 гг.
В 1878 г. писатель жил в Самарской губернии, где наблюдал, как крестьяне, не вынеся более своего бедственного положения, вынуждены были массами покидать насиженные места в поисках хлеба насущного и переселяться в пределы Урала, Казахстана и Сибири.
В последующие 80—90-е годы движение это приняло огромный размах.
Стремясь ближе познакомиться со сложным процессом переселения крестьян, писатель летом 1888 и 1889 гг. совершает поездки в места массовых поселений крестьян в Сибири, Уфимской и Оренбургской губерниях. Во время этих поездок писатель собрал богатый фактический материал. На основе его, а также личных наблюдений, глубокого запаса знаний народной жизни, встреч и бесед со многими переселенцами, писем от них писатель создал ряд очерков, которые публиковались в газете «Русские ведомости» («Письма с дороги», «От Оренбурга до Уфы» и др.). В последующем они вошли в цикл «Поездка к переселенцам» (1888—1890).
Г. И. Успенский с горечью писал о полной неразберихе и неорганизованности переселенческого дела, о темноте и наивности крестьян (очерк «Бородатые младенцы»). Он видел, что «приволье, простор, обилие сил природы» недостаточно полно используются переселенцами из-за отсутствия четкой организации этого дела.
Массовое движение крестьян требовало заботы и внимания правительства. Однако последнее проявляло бюрократизм и бездушие. С удивлением и возмущением писатель отмечал, что «на такое важнейшее дело», как переселение, «не находится почти никаких средств». Поэтому основная масса крестьян на новых местах оказалась неустроенной. Отсюда те «безлюдность и пустынность» (очерк «Простор и безлюдье»), которые приходилось наблюдать Успенскому в местах заселения на всем пути от Оренбурга до Уфы.
Вместе с тем писатель восхищается заботливой матерью-природой, которая дарит счастье своему любимому детищу — человеку, но он зачастую лишен возможности разумно использовать эти дары. Вот почему переселенцы на необъятных и благодатных просторах испытывают нужду и лишения, гнет и беззаконие (очерки «Непрочность переселенческих покупок и аренд». «Хутор недоимщиков крестьянского банка», «Подставные депутаты» и др.). О их тяжелой судьбе Успенский писал взволнованно и гневно, образно называя свои очерки «прискорбными страницами о переселенцах».
В отличие от многих русских писателей, объяснявших причины массового переселения крестьян религиозными гонениями царского правительства в отношении сектантов, Г. И. Успенский справедливо считал, что большинству русских крестьян чужда подлинная религиозность и что переселение вызвано малоземельем и безземельем крестьян, фактически «освобожденных» от земли реформой 1861 г. Это была точка зрения революционных демократов.
Г. И. Успенского волновала судьба не только кре-стьянина-переселенца, но и «инородческого» населения Урала, Сибири и Казахстана, которому пришлось испытать всю тяжесть последствий переселенческой политики царизма. Так, в очерке «Башкир пропадает» Успенский с возмущением показывает драматическую картину колонизаторской практики разного рода грабителей, расхищавших башкирские земли, вследствие чего башкиры оттеснялись все дальше и дальше на север, оставляя насиженные места.
Во время поездки к переселенцам в июне 1889 г. Успенский побывал в оренбургских степях, где познакомился с жизнью казахов. Это нашло отражение в очерке «Кочевники и русские переселенцы» (1891 г.). В нем писатель рассматривает проблему переселения русских крестьян в казахские степи не только с позиции земледельцев, но и — что очень важно — в аспекте темы настоящего исследования. Писатель объективно рассматривает последствия переселения русских крестьян с учетом положения и интересов кочевников-казахов.
Следует отметить, что указанный процесс проводился согласно положению циркуляра генерал-губернатора Степного края от 1 августа 1888 г., «весьма неласкового по отношению к переселенцам». Однако в 1890 г. новый генерал-губернатор М. А. Таубе объявил казахам Акмолинской области, что намерен переселить из внутренних губерний России не 8 тысяч, как предполагалось прежде, а до 400 тысяч крестьян мужского пола. Для «обоснования» столь обширных масштабов переселения Таубе привел цифры количества земли, населения, скота в Акмолинской области. Эти показатели были представлены Особым комитетом и Поземельной комиссией.
Однако намерения губернатора совершенно не учитывали интересов кочевого населения. Именно об этом факте и сожалеет Глеб Успенский. Он рассказывает о том, как кочевники, едва узнав о предстоящем переселении, «решили отправить в Петербург депутацию». Успенский считал, что приводимые ими доводы «в доказательство справедливости их ходатайства ни в чем не уступают в своей достоверности доводам, приводимым в пользу переселенцев».
Писатель провел обстоятельный статистический анализ, позволивший ему опровергнуть миф о том, что переселение 400 тысяч крестьян якобы не повлияет на уровень жизни кочевников. Цифровые данные, на первый взгляд как будто бы подтверждающие этот миф, Г. И. Успенский считает непроверенными. И в самом деле, было установлено, что цифры, высчитанные Поземельной комиссией и Особым комитетом, неточны, поскольку не приняты во внимание официальные сведения. Приводя соответствующие данные, Успенский спрашивает: «Где же лишние земли для переселенцев?»
Вместе с тем писатель подчеркивает, что коренные жители Акмолинской области с пониманием относились к процессу переселения крестьян и казаков в прежние годы. Казахи «беспрекословно повиновались всем распоряжениям правительства: признали проведенную нейтральную полосу (в ее законном размере, на 10 верст шириною), уступали лучшие свои земли под постройки городов и станиц». Писатель неоднократно отмечает, что переселенцы получали удобные земли. Так, с 1849 г. поселились «в Акмолинской области, Кокчетавском уезде множество переселенцев из разных губерний России, которые заняли самые лучшие места и... образовали богатые станицы и поселки» (Котуркульская, Щучинская, Аканбурлукская, Лобановская, Арыкбалыкская и др.). Успенский писал, что в конце 70-х годов были предоставлены «более удобные земли под крестьянские поселения в Кокчетавском и Атбасарском уездах и даже в настоящем году в Петропавлевском и Кокчетавском уездах образованы два русских поселения из крестьян...».
Писатель-демократ с большим сочувствием отмечает, что, несмотря на лишения, казахи «продолжают неутомимо вести свое многотрудное скотоводческое хозяйство, арендуя у казаков и крестьян необходимые для этого земли, безнедоимочно уплачивают подати и повинности и поддерживают обширную торговлю в крае».
Указывая на ухудшающееся с каждым годом положение кочевников, писатель отмечает, что они «во многих местах, особенно смежных с 10-верстной полосой, начинают пищать». Слово «пищать» здесь можно понять и как начало слабого проявления протеста и как результат усиления гнета со стороны богатых переселенцев. Действительно, сами переселенцы видели «большой наплыв обедневших» казахов в казачьи станицы и крестьянские поселки. В связи с этим «слышались жалобы», что бедные казахи «приносят большой вред казачеству, деморализуя его тем, что своим даровым трудом приучают станичников к лени». Эти данные, безусловно, свидетельствуют об обострении земельного вопроса в казахских степях и усилении процесса обнищания казахской бедноты, вынужденной идти в кабалу к казачьей верхушке и богачам-переселенцам. Поэтому далеко не случайно Глеб Успенский с тревогой писал о «натянутом положении» земельного вопроса в крае.
Писатель-реалист утверждает, что при решении проблемы переселения крестьян в казахские степи и вопроса «о возможности безвредности совместного сожительства кочевника и земледельца» необходимо учитывать «исключительно свойственное кочевникам и всему строю кочевой жизни уменье извлекать значительную пользу из бесплодных степных пространств». Крестьяне-земледельцы, хотя и занимали в казахских степях «вовсе не пустынные, не бесплодные, а вполне подходящие к земледельческому труду» местности, тем не менее не сразу могли «освоиться и приноровиться к условиям климатическим, различным состояниям почвы и другим особенностям степных пространств». Г. Успенский неоднократно повторяет свой тезис об исключительной приспособленности кочевников к суровым условиям среды и об извлечении пользы из нее.
В глухой, песчаной, безводной, безлесной равнине жалким и необеспеченным представлялось хозяйство кочевника. Оно дорого обходилось ему. Однако умение его вести хозяйство в столь суровых условиях Успенский сравнивает с цепкостью лишайника, живущего «на голом камне скал», где «никакая другая растительность немыслима». Казах-кочевник, пишет Успенский, «населяет даже такие места, которые без него оставались бы уж ровно ни к чему негодны». «Целые века приспособляясь к среде, он ныне способен продержаться со своим стадом там, где, по-видимому, совершенно невозможно существование человека»,— замечает писатель. Чтобы убедить читателя в справедливости высказанных утверждений, он ссылается на факт, указанный путешественниками: в Кзыл-Кумах во многих колодцах вода настолько насыщена сероводородом, что употребление ее вызывает «расстройство желудка даже у верблюдов и непривычных лошадей». Между тем кочевники пили эту воду «без всяких последствий».
Казахи использовали колодцы с горько-соленой водой. Они поили ею скот, разводили в ней «квашеное козье и овечье молоко» и пили эту смесь. Как пример «исключительной» приспособленности кочевников к трудным условиям среды указывается на жизнь казахов в 53 зимовках Чимкентского уезда, население которых, лишенное естественных водоемов, пользовалось водой, полученной из растопленного снега.
Из этих немногочисленных примеров Глеб Успенский делает вывод об огромных лишениях и трудностях, переживаемых кочевниками в борьбе за свое существование в «проклятых богом пустынях». Между тем в последние, как говорит писатель, земледельцев и «калачом не заманишь». И хотя переселенцы живут не в «проклятых богом пустынях», а в самых «лучших, удобнейших местах», однако и они страдают от неурожая. Успенский цитирует письмо казачьего урядника из Пресногорской станицы Г. Воронина, который с тревогой писал в «Сельском вестнике»: «Еще в августе 1889 г. наступила засуха... Земля просохла, а затем выпал снег, зима была малоснежная, весна открылась рано, так мало было снегу, выпавшего на сухую землю... Появились... пожары, леса все погорели, оставшееся от продовольстия скота сено, скирды на полях, а также и клади необмолоченного хлеба — все сгорело... Затем наступила холодная погода, так что замерзла земля и вода. К посеву хлеба приступили с 15 апреля; но холод и морозы препятствовали полевым работам, посев же все-таки продолжался. Холод и сильные бури продолжались до 20 мая... а с этого времени наступила жаркая погода с сухими и сильными ветрами. Дождя во всю весну ни одного не было и посейчас нет. Ранние посевы взошли и погибают от засухи». Далее Воронин с горечью отмечал: «Старого хлеба
запасено мало; цены на него постепенно повышаются. Бог знает, как будет наш народ пропитываться нынешний год, а скот, пожалуй, придется уничтожать».
Перед стихийными силами природы земледелец оказывался порой более беспомощным, чем кочевник, поскольку не мог быстро покинуть обжитое место и был вынужден подчиняться климатическим и почвенным особенностям местности. Успенский иронически писал, что «Великая природа» не всегда собразует свои действия с решениями всяких комиссий и советов.
В приведенном очерке писатель смело и открыто защищал интересы и права казахского населения, подчеркивая его естественную, природную приспособленность к труднейшим условиям внешней среды. Это являлось одним из главных аргументов Успенского против необдуманного массового переселения крестьян из внутренних губерний России в казахские степи.