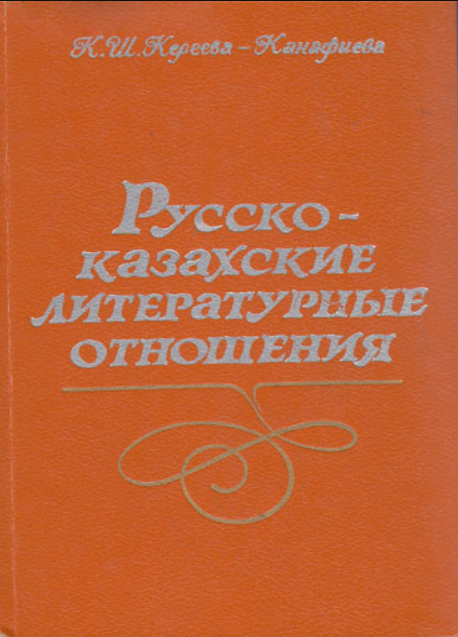Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 7
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
В. А. Перовского современники характеризовали как «личность с необычайной силой ума и железной волей», как человека блестяще воспитанного, обладавшего остроумной речью, всегда элегантно одетого, рыцарски честного, прямого и благородного, но жившего в Оренбурге «пышно и широко, как сатрап». Он много сделал по «устроению... окраины», хотя и «не без промахов, ошибок... не без жертв, вспышек гнева и проч.».
Поход русских войск против Хивы, предпринятый в 1839 г. под предводительством В. А. Перовского, получил в литературе довольно широкое освещение. Общественность проявляла неизменный интерес к этому «несчастному походу», по выражению Л. Н. Толстого, поскольку распространялись слухи о жестокостях Перовского. Так, Л. Толстой в беседе с Захарьиным-Якуниным просил сказать: «Правда или нет, что Перовский во время этого похода зарывал в землю живьем молодых киргизов-про-водников в присутствии их отцов?».
По данному вопросу И. Н. Захарьин-Якунин, автор книги о хивинском походе, привел сведения об участии в нем 1200 казахов. В основном это были верблюдовожа-тые. И когда трое из них не пожелали провожать дальше, то они по приказу Перовского были расстреляны, а остальные согласились идти. Следует отметить, что казахи всячески помогали походу. Так, автор книги приводит случай, когда в русский отряд пришли «родоначальники-казахи», в том числе султан Айчуваков «с сотней кайсаков, при нескольких стах верблюдов, которые и были у него тут же наняты».
Отказ проводников сопровождать отряд объяснялся боязнью жестокой мести со стороны хивинцев. Захарьин-Якунин приводит следующий случай. По дороге, в нескольких верстах от Ак-Булака, хивинцы встретили казаха, который вез почту из Эмбы в Чушкакуль. «На этом несчастном своем единоверце,— писал автор,— разбойники и выместили всю злобу: обыскав его, они нашли пакеты с печатями... улика, следовательно, была налицо». Хивинцы подвергли несчастного «самым ужасным истязаниям и мукам».
С другой стороны, в самом отряде разразилась эпидемия, которая усугублялась тяжелым положением солдат. Захарьин-Якунин писал, что в декабре 1839 г. «по бесконечной степи, в тридцатиградусные морозы, среди леденящих буранов, по колено в снегу, без теплой одежды и горячей пищи, оставляя за собою роковой страшный след в виде невысоких снеговых холмов-могил над умершими людьми и круглых горок нанесенного метелями снега над павшими верблюдами», шел отряд Перовского.
Офицеры и другие старшие чины отряда беззастенчиво грабили солдат. В этом отношении характерна, например, раздача порции спирта. Автор писал: «Когда фельдфебель получает его на роту, то сначала отнесет его к ротному командиру, который отольет себе часть цельного спирта и поделится с субалтерн-офицером; затем фельдфебель приказывает принести этот спирт в свою джумалейку (палатку), отделит часть себе, а также и всем капральным унтер-офицерам; потом уже позовет артельщика, тот разбавит оставшееся количество спирта теплою водою, и эту смесь выдают каждому солдату по чарке».
И. Н. Захарьин-Якунин писал, что так же делилось и топливо», добываемое «исключительно солдатскими. руками из мерзлой земли». В результате «дележа» солдаты не могли даже приготовить себе горячую пищу. «Мясо не уваривалось и в таком полусыром виде поглощалось солдатскими желудками». Естественно, что среди солдат появилась дизентерия. «Заболевшие отправлялись в ледяные фургоны, а оттуда в землю». «Белья солдаты не имели вовсе». Им же не разрешалось на ночь снимать промерзлые сапоги.
Таким образом, Перовский, руководивший этим беспрецедентным походом, предстает далеко не в ореоле рыцарски честного и благородного человека, каким пытался его представить со ссылкой на Н. Чернавского JI. Большаков, автор интересной работы о Л. Н. Толстом. Безусловно, Перовский жестоко относился не только к казахам, но и к собственному отряду. И в этом была одна из главных причин неудачи похода. Весь путь был усеян трупами солдат, павших не от руки противника, а из-за бездушного отношения командования во главе с Перовским.
Вместе с тем важно отметить, что в некоторых эпизодах книги показаны дружественные отношения между русскими и казахами, одинаково делившими суровые испытания похода. Любопытен следующий пример. В отряде на каждого офицера и двух топографов унтер-офицерского звания полагалась особая палатка, денщик, два верблюда с проводником-казахом. Молодые унтер-офицеры, будучи одетыми лучше казахов, мерзли больше их. Они спросили проводника о причинах этого явления. Тот рассмеялся и объяснил: «У вас ноги зябнут, потому что не снимаете сапоги на ночь. Кожаные сапоги днем, во время похода, промерзают насквозь, и от них ногам холодно». По его совету унтер-офицеры на ночь стали снимать сапоги и почувствовали облегчение. Но солдаты продолжали страдать, поскольку им «воспрещалось разуваться в предположении тревоги».
Занимателен и другой эпизод, связанный также с казахами-проводниками. Отряд имел более 250 пудов пакетов мясного «бульона». Часть из них была роздана людям на руки, а остальное решили погрузить на верблюдов. Однако казахи «бросали потихоньку бульон в снег, так как они считали плитки эти ни к чему негодными кирпичами». Когда же хватились и стали требовать их от верблюдовожатых, то «наивные сыны степей спокойно объявили, что они по прибытии в Оренбург, взамен этих маленьких кирпичей, обязуются доставить русским войскам большие, еще более тяжелые «настоящие» глиняные кирпичи».
Неудачный поход экспедиционного отряда Перовского получил отражение и в солдатских песнях. Так, А. И. Мякутин в 1903 г. со слов 85-летнего отставного войскового старшины записал песню о походе на Хиву:
Идем, братцы, к хивам в гости,
Разобьем их ворота,
И Бековича мы кости
Принесем с собой сюда...
А за смерть и за обиду
Так уж справим панихиду...
Другая песня имела традиционное начало:
На заре было у нас, братцы, все на зореньке...
и заканчивалась:
Наперед-то идет сам Перовский князь,
Да за ним идет сила-армия, конна гвардия.
Действительно, в составе экспедиционного отряда был «сводный дивизион» из конно-регулярного полка, составлявший личную гвардию генерала Перовского. Дивизион грудью прокладывал путь войскам среди снегов. Почти все лошади его погибли.
В песнях нашли отражение стычки между казахами и казаками, битвы с кокандцами и др.
Именно к периоду оренбургских поездок относится и другой замысел Л. Н. Толстого о большом историческом полотне. Писатель деятельно собирает материал, работает в архивах Москвы и Петербурга. В январе 1878 г. он сообщил: «Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время... Я испытываю чувство повара (плохого), который пришел на богатый рынок и, оглядывая все эти к его услугам предлагаемые овощи, мясо, рыбу, мечтает о том, какой бы он сделал обед!.. Так и я мечтаю, хотя и знаю, как часто приходилось мечтать прекрасно, а потом портить обеды или ничего не делать».
К сожалению, Л. Н. Толстой оказался прав: его мечта об историческом романе о декабристах, попавших в ссылку в Оренбургский край, не осуществилась. Осталось несколько глав романа «Декабристы» и наброски повести «Князь Федор Щетинин».
Причины, обусловившие повышенный интерес великого писателя к историческим событиям, связаны с тяжелым положением русского народа. Поиски выхода для него из этого положения становились особенно мучительными во время массовых бедствий, как, например, голода 1891—1892 гг. Писатель вновь принимает участие в организации помощи голодающим Рязанской губернии и пишет статьи «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая».
Именно в это время Л. Толстой очень близко столкнулся со страданиями народа. На его глазах происходило резкое углубление социальных противоречий между различными слоями общества. Капитализм вел активное наступление на патриархальные устои жизни, которые так упорно защищал писатель.
В романе «Воскресение»—вершине критического реализма русской классической литературы, как и в других произведениях последнего периода творчества, Л. Н. Толстой «обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь».
Вместе с тем «противоречия во взглядах и учениях Толстого» нашли наиболее яркое воплощение в романе «Воскресение», где Нехлюдов пытается найти ответы на общественные вопросы в реакционном религиознонравственном учении. Именно для этого произведения характерны, с одной стороны, беспощадное обличение и гневный протест против «правительственных насилий, комедии суда и государственного управления», а с другой —проповедь непротивления, нравственно-моралистическое, реакционное учение, «культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины».
В. И. Ленин подчеркивал, что эти «противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века».
После событий первой русской революции 1905 г. Л. Н. Толстой писал В. В. Стасову: «Я во всей этой революции состою в звании, добро- и самовольно принятом на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую». Выступая адвокатом народа России, писатель не случайно обратил свои взоры и мысли к движению декабристов, то есть к первому поколению русских революционеров, которые, по выражению В. И. Ленина, хотя и были «страшно далеки... от народа», посеяли добрые семена свободной мысли, подхваченной последующими поколениями революционеров.
Таким образом, Л. Н. Толстой в конце I860 г. приступает к созданию романа о декабристах. В 1861 г. он читает (во Франции) написанные разделы И. С. Тургеневу, которому «понравились первые главы». Три первые главы незавершенного романа увидели свет спустя почти четверть века. Главным его героем является декабрист Лабазов, прототипом которого был С. Г. Волконский, «знаменитый изгнанник», дальний родственник писателя, возвратившийся из ссылки лишь в 1856 г. С ним Л. Н. Толстой познакомился в 1860 г. во Флоренции.
Л. Н. Толстой писал, что самые известные москвичи считали «в пятьдесят шестом году своей непременной обязанностью оказать всевозможное внимание» возвратившемуся декабристу, «которого они не хотели бы видеть ни за что на свете три года тому назад», потому что Лабазов был сослан на каторжные работы за события 1825 г.
Мысль о завершении «Декабристов» не покидает писателя в течение длительного времени. В феврале 1878 г. он совершает поездку в Москву для сбора материала о декабристах. Здесь же происходят его встречи с декабристами П. П. Свистуновым и М. Н. Муравьевым-Апостолом, а у декабриста А. П. Беляева писатель получает рукопись его воспоминаний и осматривает казематы Петропавловской крепости, где они сидели.
Острый интерес к декабризму сохраняется у великого писателя даже в его преклонные годы. Так, в апреле — мае 1904 г. он продолжает знакомиться с историческими материалами об этом движении. В 1905 г. Л. Н. Толстой читает «Записки» декабристов А. Е. Розена и И. Д. Якунина. Тогда же его внимание привлекли и «Записки» декабриста Д. И. Завалишина, личное знакомство с которым состоялось еще в апреле 1889 г.
Л. Н. Толстой, по-видимому, знал о том, что Д. И. Завалишина предал родной брат Ипполит, и использовал этот эпизод в своем неоконченном романе.
Между тем «деяния» предателя и авантюриста Ипполита Завалишина заслуживают внимания, поскольку он многие годы провел в казахских степях. Известно, что Казахстан в прошлом был местом ссылки политических противников царизма. Ссылали сюда и декабристов. Однако среди них встречались люди, пытавшиеся ввести в заблуждение общественное мнение, выдавая себя за политических ссыльных. Таким представлял себя и Ипполит, которого отдельные современные исследователи иногда принимают за революционера-декабриста.
Однако И. Завалишин никогда декабристом не был. Более того, он сыграл предательскую роль в судьбе некоторых из них. В архиве журнала «Русская старина» сохранилось письмо его родного брата Дмитрия Иринарховича Завалишина от 11 декабря 1880 г., адресованное издателю М. И. Семевскому. В нем характеризуется жизненный путь Ипполита. Отец их овдовел в молодые годы и остался с четырьмя малолетними детьми, старшему из которых было 9 лет и младшему (Ипполиту) — 2 года. Должность генерального инспектора путей сообщения требовала постоянных разъездов, и он вынужден был жениться. Мачеха оказалась неумелой воспитательницей. Поэтому 10-летний Дмитрий стал настойчиво требовать от отца, чтобы его определили в Морской корпус. Ипполита мачеха воспитала взбалмошным. Будучи в артиллерийском училище, он «попал в дурную историю», из которой его спас («выкупил») старший брат. В последующем Ипполит решил, по-видимому, выслужиться и донес на своего родного брата, члена Северного тайного общества декабристов. Вот что писал по этому поводу Д. И. Завалишин: «Воспользовавшись тем, что, прибежав ко мне в день отправления моего в отпуск, он (Ипполит.— К. К.) нашел у меня огромное число людей, собравшихся провожать меня: тут были и члены Северного тайного общества с Рылеевым во главе, по поручению которого я отъезжал; тут были почти все офицеры гвардейского экипажа, и многие знакомые и даже иностранцы».
Впоследствии И. Завалишин, не видя в числе осужденных декабристов многих из тех, кого он видел на проводах брата, донес, что Д. И. Завалишин «скрыл многих, особенно иностранцев», и что брат (Дмитрий.— К. К.) «получил огромные деньги из-за границы». Однако нелепость его доноса на родного брата была немедленно обнаружена, за что он был осужден «к лишению всех прав и к ссылке в Сибирь».
Но Дмитрий Завалишин, к этому времени уже осужденный, обратился через Левашова к царю с письменной просьбой смягчить приговор Ипполиту, чтобы облегчить участь семьи. Ипполита разжаловали в рядовые, но не лишили дворянства. Он был отправлен в Оренбург. Здесь, «пользуясь тогдашнею безгласностью, в объяснение своего осуждения придумал такую историю, будто бы он был осужден за попытку освободить «Дмитрия из крепости». «В Оренбурге Ипполит выдал себя за декабриста, завлек несколько прапорщиков и юнкеров в сохранившиеся будто бы отрасли тайного общества и затем донес сам же и на них». И опять предатель не избежал наказания: Ипполит был вновь сослан на каторжные работы в Нерчинск. Отсюда он был направлен на поселение, где опять «считался и выдавал себя за декабриста».
Таким образом, Д. И. Завалишин разоблачает Ипполита как самозванного декабриста, который ловко использовал «внешнее сходство с историей декабристов в Сибири» и «сделался... двойником» своего брата — подлинного декабриста.
С пребыванием Л. Н. Толстого в Оренбургском крае связано и появление рассказа «За что», в основу которого положен эпизод из книги С. В. Максимова «Сибирь и каторга». Герой рассказа Иосиф Мигурский—участник польского восстания 1830—1831 гг. был сослан солдатом в линейный батальон в Уральск. Его жизнь здесь была однообразной и тяжелой, хотя он и «жил не в казармах, а на своей отдельной квартире», что противоречило суровым требованиям Николая I. Действительно, командир батальона, в котором числился Мигурский, «был полуграмотный, выслужившийся из солдат... понимал положение бывшего богатого, образованного молодого человека, лишившегося всего, жалел его и уважал и делал ему всякого рода послабления».
Жизнь Мигурского в Уральске резко изменилась с приездом из Польши Альбины, младшей дочери пана Ячевского, друга отца Иосифа. Из Оренбурга был выписан ксендз, который и обвенчал молодых людей.
Через пять лет на Мигурских обрушилось страшное горе: умерли после болезни дети. И в это тяжелое для них время приехал в Уральск ссыльный поляк Росолов-ский, участник провалившегося «возмущения и побега» поляков из сибирской ссылки. Под его влиянием у Альбины и Иосифа созревает план побега. Мигурский на время должен был скрыться, оставив одежду на берегу Урала. Версия об его «утоплении» должна была быть подтверждена соответствующей запиской. По прошествии известного времени Альбина начинает, как вдова, ходатайствовать о выезде на родину с прахом детей. Для гробов будет сделан специальный ящик, в котором спрячется Иосиф, а гробы — оставлены в могиле. В Саратове беглецы намеревались нанять лодку и по Волге добраться до Каспия, а оттуда в Персию или Турцию. Но беглецов погубила случайность: разговор Мигурских был услышан провожатым казаком-уральцем, выходцем из среды богатого казачества Данилой Лифановым, который незамедлительно донес полиции. «Мигурского судили и приговорили за побег к прогнанию сквозь тысячу палок. Его родные... выхлопотали ему смягчение наказания, и его сослали на вечное поселение в Сибирь. Альбина поехала за ним».
Заслуживает внимания в рассказе описание казахстанского пейзажа. Добрая тройка понесла тарантас ссыльных «по гладкой, как камень, убитой дороге, между бесконечной, непаханной, поросшей прошлогодним серебристым ковылем степью». В полном соответствии с волнением и приподнято восторженным состоянием Альбины и «день был ясный... Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковылем на косых лучах утреннего солнца. Только то с той, то с другой стороны жесткой дороги, по которой, как по асфальту, гулко звучали некованные быстрые ноги... коней, виднелись бугорки насыпанной земли сусликов: на заду сидел сторожевой зверек и предупреждал об опасности, пронзительно свистел и скрывался в йору. Редко встречались проезжие: обоз казаков с пшеницей или конные башкиры, с которыми казак бойко перекидывался татарскими словами».
К оренбургскому периоду творчества Л. Толстого относится и появление назидательного рассказа «Ильяс». Писатель повествует о судьбе человека, нажившего своим трудом большое богатство, но затем обедневшего и понявшего, что счастье — не в богатстве. К числу причин, способствовавших обеднению Ильяса, относится и случай угона казахами лучшего косяка лошадей («...косяк лучший киргизцы отбили»).
Итак, приведенные данные вполне позволяют сделать вывод о том, что великий писатель-гуманист проявлял большой интерес к событиям в казахских и башкирских степях, к нелегкой судьбе их кочевых народов.
В 80—90-е годы широкую известность получает имя писателя Владимира Галактионовича Короленко (1853—1920), прямым учителем которого в изображении народной жизни был Г. И. Успенский.
Повести, рассказы и очерки Короленко реалистически показывают русскую деревню на рубеже двух веков в период активного наступления капитализма.
Большое общественное звучание имели выступления писателя в защиту прав «инородческого» населения России, против колонизаторской политики царизма. Короленко внес свой вклад и в освещение казахской темы. В этой связи мы обращаемся к малоизвестным сторонам его творчества.
Летом 1900 г. В. Г. Короленко совершил поездку в область Уральского войска. Заинтересовавшись характером пугачевского восстания, он хотел познакомиться с изустными преданиями народа о вожде Крестьянской войны и его сподвижниках. Намеревался Короленко поработать и в местном архиве. Писатель с семьей поселился на даче, в семи верстах от Уральска, где прожил с июня по декабрь 1900 г. Отсюда он совершил поездки по казачьим станицам и казахским степям. Короленко занимали вопросы не только далекого прошлого, но и современной ему действительности. Он внимательно наблюдал своеобразную жизнь уральских казаков и особенности быта местного кочевого населения.
Собранный писателем богатый материал послужил основой для серии очерков, объединенных общим заглавием «У казаков». Впервые они были опубликованы в конце 1901 г. в XI и XII книжках «Русского богатства».
О своих очерках Короленко писал в письме к Ф. Д. Батюшкову от 6 сентября 1901 г.: «Это просто бесхитростное изложение впечатлений, встреч, картин степной природы, вообще то, о чем я много рассказывал в разговорах».
Очерки передают интересные размышления писателя об управлении и административном устройстве в казахских степях. В них критикуется правительственная политика, анализируются причины взаимного недоверия казачьего населения и коренных жителей, приводятся новые данные о проникновении русской земледельческой культуры и первых русских переселенцах, мирно «просочившихся» через границы степи. В очерках содержатся интересные наблюдения писателя за бытом и нравами кочевников, высказывания о казахской песне и музыке. Страницы очерков, посвященные казахам, проникнуть, глубоким сочувствием к судьбе народа.
Во время пребывания в казахских степях Короленко вместе со своими илецкими знакомыми посетил аул Ирджана Чулакова, бывшего управителя Карачаганской волости. Сопровождавшие писателя местные обыватели рекомендовали ему быть «поумнее» и «уважать обычаи». «От кумыса не отказывайтесь, ешьте побольше,— напутствовали его.— Да вы смотрите на нас, как мы, так и вы... А первый кусок, который вам подаст хозяин, отдайте обратно. Ему будет лестно».
Писатель дал детальную портретную характеристику Ирджана Чулакова, этого почтенного и даже несколько повелительного человека, хотя илецкие знакомые звали его в разговоре между собой уменьшительным именем Ирджанка. «Вообще вся фигура напоминала скорее солидного степного помещика»,— писал автор. Чулаков «был одет в кафтан, вроде поддевки из чесучи, такие же брюки, засунутые в голенища лакированных сапог; на голове у него была темная войлочная шляпа».
Хозяин принял гостей «с спокойным достоинством». «Внимательно оглядев» их и «как бы взвесив что-то», он подозвал работника и отдал распоряжение. Вскоре огонь около одной из юрт разгорелся ярче, и раздался крик молодого барашка, «невинной жертвы... неожиданного» посещения русских. В. Г. Короленко привлекали этнографические особенности казахов. Он внимательно наблюдал за своеобразной жизнью аула и впоследствии писал: «Вся картина казалась мне обрывком прошлых времен, отголоском какого-то далекого и давно прожитого быта».
В. Г. Короленко интересовало пугачевское восстание. Однако о нем «в киргизской степи сохранилось мало воспоминаний»,— сожалел писатель. Зато в песнях «домрачеев» (домбраши.— К. К.) больше сохранилось «о борьбе киргиз с калмыками». В. Г. Короленко писал, что род хана Абулхаира, «современный пугачевскому движению, перевелся». Ирджан Чулаков из четырех сыновей хана знал Нурали (о котором рассказали русские историки) и Айчувака. После пугачевского бунта, читаем у Короленко, казах «простого рода батыр Сарым-Дач (Срым Датов.— К. К.) поднял восстание». Ему удалось «склонить на свою сторону семь родов Джетруской орды (Малой орды.— К. К.), после чего сын Нурали —хан Букей ушел со своей ордой на Волгу». «Один из сыновей Айчувака был известный Бай-Мухамедов, заслуженный боевой генерал, пользовавшийся большим влиянием в Петербурге. Благодаря несчастной случайности, он утонул во время бурного разлива Урала». Чулаков сообщил также писателю, что один из потомков хана Айчувака служит приказчиком у русского купца, другой — кочует в степи.
Внимание В. Г. Короленко привлекло и то, что «на место этих чингисхановичей выдвинулись (благодаря, вероятно, политике правительства) новые люди, незнатного рода». К последним относился и Ирджан Чулаков. Он воспитывался в Оренбургском кадетском корпусе, был на военной службе, участвовал в хивинском походе, за что получил несколько знаков отличия.
Когда же речь зашла о более отдаленных исторических событиях, то «в преданиях о них фигуры батырей в роде Сарыма-Дача закрывают ханов»,— писал автор. Имея это в виду, Короленко сожалел, что «историческая перспектива давно потеряна и, отражая действительные события, преломляется смутно, неопределенно и порой странно».