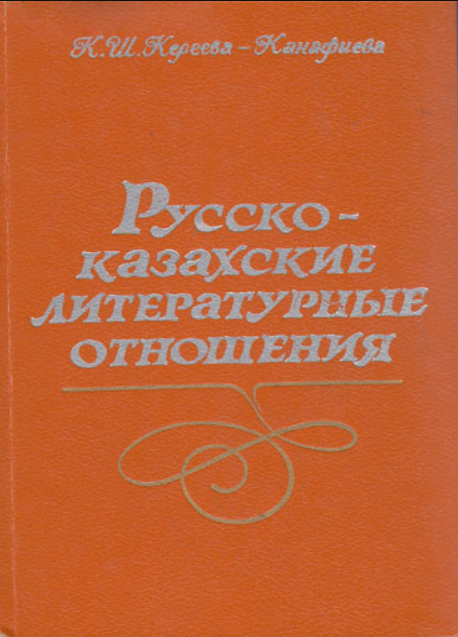Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 3
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
О заимствованиях лучших достижений одного народа другим рассказывает, например, следующий эпизод из «Семейной хроники»: жизнь людей, зверски наказанных помещиком Куролесовым, «спасали только тем, что завертывали истерзанное их тело в теплые, только что снятые шкуры баранов, тут же зарезанных...» Между тем этот метод лечения под названием «блау» широко использовался в казахской народной медицине.
Любопытно также описание приема лечения кумысом в «Хронике». Когда заболела Софья Николаевна, она была привезена в татарскую деревню, где для нее приготовляли «этот благодатный напиток... цивилизованным способом, то есть кобылье молоко заквашивали не в тур-суке, а в чистой, новой, липовой кадушке. Хозяева утверждали, что такой кумыс менее вкусен и менее полезен, но больная чувствовала непреодолимое отвращение к мешку из сырой лошадиной кожи...» (262). Описание автора в основном правдиво, кроме одной детали: для турсука или сабы (резервуар для хранения кумыса) обычно использовалась лошадиная кожа, подвергнутая длительному копчению дымом.
В «Хронике» отмечается, что доктор, назначивший диету Софье Николаевне, по-видимому, «руководствовался пищеупотреблением башкир и кочующих летом татар (казахов. - К. К.), которые во время питья кумыса почти ничего не едят, кроме жирной баранины, даже хлеба не употребляют, а ездят верхом с утра до вечера по своим степям... Лечение пошло отлично-хорошо-..» (263). По воспоминаниям С. А. Берса, именно так лечился кумысом и Л. Н. Толстой во время пребывания в Оренбургском крае, и у него лечение дало отличные результаты-
Интерес представляет и воспоминание Аксакова «Знакомство с Державиным» (1856), состоявшееся в 1815 г. в Петербурге. Молодой Аксаков понравился «певцу Фелицы», как называли тогда «литераторы и дилетанты русской словесности» Г. Р. Державина. Как известно, великому поэту широкую славу принесла ода «К Фелице», где, пожалуй, впервые казахская тема вошла в русскую поэзию.
Казахские мотивы отразились и в поэтических произведениях самого Аксакова. Например, его стихотворение «Уральский казак», хотя, по мнению самого автора, являлось «слабым и бледным подражанием» «Черной шали» Пушкина, тем не менее интересно: в нем описывается «священная брань» уральских казаков с их ближайшими соседями-кочевниками. На фоне непрекращавшей-ся брани, ставшей причиной длительного отсутствия казака, нарушается обет, данный супругой, и наступает трагическая развязка жизни молодых людей.
Известно, что Оренбургский край был ареной крупных социальных потрясений, лихорадивших царскую Россию. В «Хронике» имеется важное свидетельство о движении крестьян под руководством Е. Пугачева. «Много пронеслось годов, много совершилось событий: был голод, повальные болезни, была пугачевщина. Шайки Емели распугали помещиков Оренбургского края». Их бегство за пределы края приняло широкие размеры.
В русской литературе прошлого века неоднократно обращалось внимание и на такое социальное явление, как купля помещиками казахских детей. В «Хронике» также есть упоминание об этом факте, порожденном эпохой крепостничества. «В те времена в Уфимском наместничестве,— писал Аксаков,— было самым обыкновенным делом покупать киргизят (казахских детей.— К. К.) и калмычат обоего пола у их родителей или родственников; покупаемые дети делались крепостными слугами покупателя» (239).
Живя в течение многих лет среди разноплеменного населения края, Аксаков тем не менее не создал произведения, где центральным героем был бы представитель «инородцев»; более того, писатель не создал ни одного законченного, цельного образа казаха, башкира и т. д. Поэтому совершенно прав К. Покровский (1911), сказав о том, что этнографический «элемент» «в произведениях Аксакова играет чисто эпизодическую, случайную роль».
Между тем такой писатель, как С. Т. Аксаков, «близко стоявший к жизни простого народа и инородцев... пристально к ним присматривавшийся и проведший вдобавок половину своей жизни на юго-восточной окраине России, мог бы сообщить в высшей степени интересный и ценный материал. Но Аксаков, очевидно, не придавал своим сведениям никакого значения, и лишь изредка, по мере надобности, вводил их в свои рассказы, но никогда не пробовал обособить их в отдельную статью, рассказ или исследование».
К сожалению, изучению так называемого этнографического материала, связанного с жизнью и бытом казахов, башкир, татар и других народов, в произведениях С. Т. Аксакова не уделено должного внимания и в труде С. Машинского, автора монографии о жизни и творчестве писателя.
Однако представленный нами материал интересен все же тем, что Аксаков, как писатель-реалист, не смог игнорировать многие социальные явления, имевшие место в Оренбургском крае, и верно, хотя и сжато, коротко отразил их в своих произведениях. При этом он запечатлел весьма важный этап в становлении и развитии добрососедских и дружеских отношений между различными народами, населявшими обширный край.
Наконец, имеет познавательную ценность и тот факт, что сын одного из героев «Семейной хроники» крепостного Михайлушки Ларион ценой неимоверных усилий выбился в люди и был возведен даже в дворянское достоинство. А внук Михайлушки Михаил Ларионович Михайлов (1828—1865) известен как революционер-шестидесятник, ближайший сподвижник Чернышевского и Герцена, как крупный поэт некрасовской школы, замечательный критик, переводчик и журналист. Его творческая биография небезынтересна и в свете рассматриваемой проблемы. М. Л. Михайлов немало прочувствованных строк посвятил казахам, с которыми его роднила общая кровь. Отец писателя, горный чиновник, был женат на дочери генерал-лейтенанта русской армии Василия Егоровича Уракова—мелкого казахского князя, выходца, по мнению М. О. Ауэзова, из рода легендарного батыра Орака (Урака), жившего в XV веке. Ольга Васильевна, будущая мать Михаила Ларионовича, получила родовое имение — село Яхонтово с 500 десятинами земли и 26 крепостными крестьянами.
Родился М. Л. Михайлов в Оренбурге. И хотя, по официальным документам, он происходил из дворян, однако «в жилах его текла кровь простого человека, крестьянина». Дед писателя Михаил Максимович, как уже упомянуто, был крепостным в семье Аксаковых. В «Семейной хронике» этому человеку уделено немало внимания. Молодой писец Михаил Максимович, «необыкновенно умный и ловкий», служил у двоюродной сестры дедушки автора «Хроники» Надежды (в романе Прасковьи) Ивановны и оказал важную услугу семье Аксаковых (в романе — Багровых).
Муж Надежды Ивановны некий Куроедов (в «Хронике»— Куролесов) отличался жестокостью, истязал молодую жену, вел разгульную жизнь, пил, буйствовал. Наконец, он был отравлен двумя крестьянами «из числа самых приближенных к барину». Скоропостижная смерть Куролесова, конечно, «повела бы за собой уголовное следствие», но все было улажено благодаря вмешательству Михаила Максимовича. После этих событий Михаил Максимович, широко известный в Симбирской и Оренбургской губерниях под именем Михайлушки, стал поверенным и главным управителем всех имений вдовы Куролесова. С. Т. Аксаков писал: «Этот замечательно умный и деловой человек нажил себе большие деньги, долго держался скромного образа жизни, но отпущенный на волю после кончины Прасковьи Ивановны, потеряв любимую жену, спился и умер в бедности. Кто-то из его детей, как мне помнится, вышел в чиновники и, наконец, в дворяне». Но, вопреки мнению автора «Хроники», Н. В. Шелгунов, близкий друг поэта-революционера М. Л. Михайлова, в своих «Воспоминаниях» приводит более достоверную версию, дополняющую сведения Аксакова о Михаиле Максимовиче: «Замечательно умный и деловой человек, известный всем и каждому в двух губерниях, был дед Михаила Ларионовича Михайлова; но он умер не потому, что спился на воле, а вот почему. После смерти Прасковьи Ивановны Михайлушка был отпущен на волю, но вольная была сделана не по форме. Этим воспользовались наследники, и всех уволенных Прасковьей Ивановной, в том числе и Михайлушку, опять закрепостили. Дед Михаила Михайлова протестовал, за что его заключили в острог, судили и высекли как бунтовщика. Вот отчего он умер; очень может быть, что он и запил, но уж, конечно, не оттого, как объясняет Аксаков... что Михайлушка «держался скромного образа жизни», пока был крепостным, и разбаловался на свободе.
Трагическая судьба деда произвела глубокое впечатление на М. Л. Михайлова. В 1861 г. на следствии он говорил: «Дед мой был тоже жертвою несправедливости: он умер, не вынеся позора от назначенного ему незаслуженного телесного наказания. Такие воспоминания не истребляются из сердца».
Действительно, Михайлов не только бережно хранил в душе образ деда, но и запечатлел его в своем творчестве. По-видимому, судьба этого талантливого самородка, жестоко обманутого хозяевами, послужила основой повести «Былое» (1858), в которой крепостной крестьянин попытался выкупиться на волю, но был подвергнут грубым издевательствам и обману со стороны крепост-ников-хозяев.
Дети Михаила Максимовича, в том числе и Ларион Михайлович, действительно, вышли «в люди». Последний из мелкого чиновника превратился в барина. Ларион Михайлович занимал крупный пост управляющего Илецкой Соляной Защитой и имел чин надворного советника.
Михаил Михайлов получил первоначальное образование дома. Впоследствии, когда в 1841 г. скончалась мать, а в 1845-м умер отец, осиротевших детей опекают Ураковы, устраивая их в уфимскую гимназию. Михаилу очень легко давались иностранные языки, и поэтому уже в школьные годы он переводит стихи Г. Гейне и отсылает их в столичные журналы.
В 1846 г. юноша Михайлов поступил вольнослушателем в Петербургский университет, где его внимание привлек студент в поношенном форменном сюртуке. Думая, что студент остался на второй год, Михайлов спросил его об этом. Тот ответил просто: «Я старенький (сюртук.— К. К.) купил». Этим студентом был Чернышевский. Так было положено начало их знакомству и последующему сближению. Окончить университет Михайлову не удалось из-за материальных трудностей, и в 1848 г. он уехал в Нижний Новгород на службу.
С 1851 г. началась его литературная деятельность, а еще спустя год он возвратился в столицу, где вскоре стал общаться с крупнейшими писателями того периода (И. С. Тургеневым и др.). Во время поездки за границу М. Л. Михайлов знакомится с Герценом и Огаревым и становится на позиции революционных демократов. В ответ на реформу 1861 г. он вместе с Шелгуновым написал прокламацию «Молодому поколению». Отпечатанная в лондонской типографии Герцена, она была перевезена Михайловым в столицу. Здесь 14 сентября 1861 г. его арестовали.
М. Л. Михайлов выступил соавтором не только прокламации «Молодому поколению», но и прокламации «Русским солдатам» (1861). В последней приветствовалось начавшееся волнение в Польше.
В. И. Ленин, характеризуя общественную обстановку в России периода деятельности М. Л. Михайлова, писал в статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» (1901): «...мы припомним еще прокламацию «Молодой России», многочисленные аресты и драконовские наказания «политических» преступников (Обручева, Михайлова и др.), увенчавшиеся беззаконным и подтасованным осуждением на каторгу Чернышевского...». В. И. Ленин относил Михайлова к числу «сознательных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации», которых жестоко истреблял царизм.
О деятельности М. Л. Михайлова высоко отзывались Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Герцен, Огарев и др. Дружба с этими выдающимися представителями русского революционно-демократического движения оказала решающее влияние на формирование его мировоззрения. Михайлов принадлежал к когорте революционеров, мысли и чувства которых были направлены на поиски путей освобождения угнетенных народов России.
Царизм в 60-е годы пытается загнать передовую мысль за тюремные решетки. И Михайлов, как один из носителей этой мысли в России, попадает в Петропавловскую крепость. В одно время с ним в каземате Невской куртины Петропавловской крепости находился и студент университета Евгений Петрович Михаэлис, брат Л. П. Шелгуновой, впоследствии сосланный в казахские степи, где он стал близким другом Абая Кунанбаева.
14 декабря 1861 г. над Михайловым была совершена гражданская казнь. Затем его отправили на каторгу в Нерчинск, где он и умер в 1865 г.
Редактор первого полного собрания сочинений М. Л. Михайлова (1912) П. В. Быков с сожалением отмечал, что после смерти сосланного писателя «о нем совсем забыли, как будто это был заурядный писатель, ничем не проявивший себя». С течением времени многие стали смешивать его с другим Михайловым, псевдонимом, под которым писал А. К. Шеллер. О М. Л. Михайлове если и вспоминали, то лишь как о политическом деятеле, а не как о литераторе. Только в наше время писатель-демократ занял достойное место в плеяде видных русских художников слова 50—60-х годов XIX в.
В русской поэзии М. Л. Михайлов выступает как продолжатель традиций политической лирики А. С. Пушкина («В Сибирь») и М. Ю. Лермонтова («На смерть поэта»). Отсюда вполне естественно и закономерно его обращение к теме декабристов («Пятеро»). Тема эта, как известно, привлекала внимание Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Н. П. Огарева, В. С. Курочкина и др.
М. Л. Михайлов известен не только как крупный поэт и прозаик, но и как талантливый переводчик. Современники (Шелгунов и др.) утверждали, что только благодаря его блестящим переводам русские читатели впервые познакомились со многими творениями поэтов Запада и Востока. Популярностью пользовались многообразные критические и публицистические статьи Михайлова, в которых он продолжал и развивал идеи великих русских критиков В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.
Следует заметить, что своеобразная, яркая личность М. Л. Михайлова вызывала живейший интерес и противоречивую оценку у его современников. Так, черты казаха (по материнской линии) нашли отражение во внешности писателя. Одна из близких его друзей, Л. П. Шелгунова, писала, что Михайлов не был красив, его маленькие, узко «разрезанные глаза и бледносмуглый цвет лица имели что-то восточно-степное, оренбургское... И это-то некрасивое лицо светилось внутренней красотой, лучилось успокаивающей кротостью и мягкостью, чем-то таким симпатичным и женственно-привлекающим, что Михайлова нельзя было не любить».
В воспоминаниях А. Панаевой отмечено, что Михайлов вошел в кружок литераторов «Современника» в 50-х годах. Однако портрет писателя дан мемуаристкой в негативном плане.
Именно в эти годы некоторые видные русские литераторы принимают участие в деятельности журналов «Военный сборник» и «Морской сборник». Так, Чернышевский— член редакции первого журнала, а Гончаров и Григорович — сотрудники второго участвовали по приглашению морского министерства в путешествии к берегам Японии (фрегат «Паллада») и по Средиземному морю (корабль «Ретвизан»). В 1856 г. в различные районы Волги были направлены Островский и Писемский. В числе других писателей был приглашен и Михайлов, командированный в 1856 г. на Урал и в Оренбургский край.
В конце 1855 г. Михайлов прибыл в Оренбург, имея письмо от морского министерства на имя Перовского. В нем содержалась просьба к генерал-губернатору оказать содействие писателю в изучении быта населения края. Перовский обещал помочь, но в действительности помощь его была незначительной. Морское министерство со своей стороны недостаточно аккуратно высылало необходимые для расходов деньги, и писатель во время разъездов по территории края расходовал собственные средства. Наконец, он был «принужден приостановиться и сидеть на месте». Это вынужденное сидение Михайлов использовал для приведения в порядок собранных им материалов по этнографии и статистике края, среди которых были и памятники народной поэзии казахов и башкир. Изучение в это время татарского языка облегчило ему знакомство с образцами фольклора. Как отмечал писатель в письме к Шелгунову, «нет такой реки, нет такой горы, про которую не существовало бы легенды или песни». Кроме текстов он записал даже несколько мелодий с помощью брата — И. Л. Михайлова.
С февраля 1856 по май 1857 гг. Михайлов изъездил многие казахские районы Оренбургского края. Его заинтересовали крупные волнения среди казахов за Уралом и во Внутренней орде. О масштабах их выступлений летом 1855 г. позволяют судить сведения о численности восставших: более десяти тысяч человек. Восстание было подавлено военной силой. Однако и в 1856 г. волнения среди казахов повторились.
Совершенно прав П. Фатеев (1951), который подчеркивал, что «особенно важную роль в завершении формирования мировоззрения Михайлова сыграла поездка его по Оренбургскому краю». Почти двухлетнее пребывание в крае позволило писателю вплотную познакомиться с тяжелой жизнью не только русских крепостных крестьян, но и угнетенных слоев казахского и башкирского народов. Он с удовлетворением отмечал, что народы края не примирились с политикой царизма, что здесь еще жива память о вождях крестьянских войн и национально-освободительных движений.
Писатель и востоковед П. И. Пашино писал, что Михайлов из оренбургской экспедиции привез «очень много материалов на татарском языке, касающихся башкирских бунтов». Да и сам Михайлов, довольный результатами поездки, сообщал, что она принесла ему «много пользы: и опыт, и встречи с людьми, и ближайшее изучение Руси», чего ему «не доставало». Из Уральска он собирался посетить Гурьев, а оттуда на пароходе — Мангышлак.
В письме к Шелгунову из Уральска от 25 февраля 1857 г. Михайлов писал: «В настоящую минуту у меня три желания: во-первых, обнять тебя поскорее; во-вторых, быть таким же хорошим человеком, как ты, чтобы тебе не совестно было обнимать меня; в-третьих, быть богатым, чтобы впредь не брать никаких поручений от морского министерства, и если странствовать, то странствовать по своей воле... В статьях моих об Оренбургском крае будет, надеюсь, кое-что новое».
Собрав обширный и ценный фактический материал, Михайлов не успел все обработать и спустя два года поместил в «Морском сборнике» лишь «Уральские очерки (из путевых заметок 1856—1857 гг.)». В них содержалось описание Уральска. М. Л. Михайлов рассчитывал издать два больших труда: «Очерки Башкирии» и «От Уральска до г. Гурьева». К сожалению, эти замыслы остались не осуществленными. И здесь не вина писателя. Не только отдельные статьи и очерки, но и почти весь его оренбургский материал погиб в III отделении.
М. Л. Михайлов и сам предвидел печальную судьбу своих трудов. Так, из Уральска он писал, что «везде стараюсь, по мере возможности, говорить откровенно, без прикрас о положении края». Именно поэтому писатель считал, что «половина» его трудов «застрянет в цензуре». Его возмущала политика царизма, жестоко угнетавшего «инородцев». Не случайно в одном из революционных изданий обращалось внимание на то, что «нигде бессистемность, беспутство русской азиатской политики не сказались так резко, как в Оренбурге».
1858—1861 гг. были наиболее активными в творческой биографии М. Л. Михайлова. В многочисленных журналах, в первую очередь в «Современнике», он печатает евои произведения. Даже в детском журнале «Подснежник» выходят его сказки «Три зятя», «Кот и пастух», «Булат-молодец». Последняя была написана, как подметила редакция, не без влияния степных просторов на автора, о чем свидетельствует и имя героя.
Казахской теме Михайлов посвятил несколько своих публикаций. Писателя-демократа привлекали не только произведения устного творчества казахов, но его остро интересовали жизнь и быт народа. Обращая особое внимание на «нравственное и умственное образование» казахов, М. Михайлов в очерке «Киргизы» («Казахи»— К. К.) отмечал, что они «с самой колыбели» предоставлены самим себе и «влиянию окружающей... обстановки». Казахи, по мнению автора, отличались от других азиатских народов «большей прямотою действий и отсутствием вероломства...» Среди кочевников было «мало» грамотных людей, «знающих читать и писать, а ученых, то есть знакомых с арабским и персидским языками и восточными древностями, совсем нет»,— писал Михайлов. У казахов «домашнее обучение поручалось муллам, которые «сами, не имея необходимых сведений, учат без всякой системы». В результате «зачастую ученики одного муллы не могут прочесть написанное учениками другого муллы».
Царское правительство «...для первоначального образования» казахов учредило школы в Оренбурге, Троицке, Омске, а также в некотррых других городах, степных укреплениях и сырдарьинских фортах. Число учеников в них было от 20 до 30 в год. В школе, учрежденной при Пограничной комиссии, преподавали русский и татарский языки, арифметику, магометанский закон, православный катехизис, священную историю, геометрию, географию, всеобщую историю, черчение и рисование. Однако «прочие школы» имели целью лишь обучение грамоте. Таким образом, просвещение казахского населения в школах находилось, по выражению М. Л. Михайлова, «еще в младенчестве».
Царское правительство было заинтересовано в укреплении своей опоры среди верхушки казахского населения. Поэтому для детей султанов и «почтеннейших» казахов были «учреждены особые вакансии в Оренбургском неплюевском и Сибирском кадетском корпусах, где они оканчивают курс наравне с прочими воспитанниками и выходят в офицеры». Однако Михайлов признавал, что эти учебные заведения «не приносят существенной пользы» казахскому народу. Он рекомендовал «выбирать наиболее способных» казахских мальчиков из «элементарных школ» и помещать их в ближайшие гимназии, чтобы оттуда они могли поступать в университеты. Автор полагал, что «такие люди, возвращаясь в свою среду, вносили бы в нее с собой элементы современной цивилизации и, занимая общественные должности, искоренили бы мало-помалу то невежество, которое еще так сильно развито в народе».
М. Л. Михайлов писал, что «конечно, еще далеко то время», когда казахи «выйдут на истинный путь просвещения». Он считал, что «с размножением семей в степи весьма естественно размножатся и казахские школы». Сами же казахи обучению своих детей «не противятся». Писатель заметил также, что казахи «прилинейные» и кочующие близ русских фортов «кажутся» более развитыми, чем те, которые блуждают внутри степи.
В очерке «Киргизы» («Казахи».— К. К.) автором рассмотрен большой круг вопросов: деление казахов на роды, их вероисповедание, нравы, обычаи, домашний быт, промыслы, нравственное и умственное образование и пр. Так как многие из этих вопросов освещены Михайловым недостаточно, мы рассмотрим лишь отдельные положения очерка. Автор отмечал, что во всех обрядах казахов «религиозный элемент проявлялся слабо». В православие казахи переходят неохотно, и если иные принимают крещение, «то более для того, чтобы избежать наказания по какому-нибудь уголовному делу и по другим случаям».
Характеризуя домашний быт казахов, Михайлов подчеркивает, что он «незавиден по обстановке». Имущество казахи хранят в сундуках русского изделия. Пища и питье у кочевников не отличаются разнообразием. Скотоводство составляет главное их занятие. Многие из казахов занимались соляным промыслом, а также «промышляли» извозом, то есть перевозили на верблюдах и волах тяжести и товары. Беднейшие же нанимались на полевые и другие работы. Земледелием «прежде» занимались исключительно бедняки, имевшие мало скота. Ныне, пишет автор, за обработку земли взялись и богатые казахи, которые, отправляя свои стада на кочевки, «начинают возделывать поля, огороды и бахчи». Таковы некоторые положения, наиболее обстоятельно рассмотренные Михайловым в очерке о казахах.
Следует заметить, что в исследованиях П. Фатеева (1951), А. Кушакова (1953), М. Дикмана, Ю. Левина (1958), а также издателя первого Полного собрания сочинений М. Л. Михайлова в дореволюционное время П. В. Быкова (1912) и других не обращено должного внимания на разработку темы казахского народа в творчестве замечательного писателя-революционера. Между тем М. Л. Михайлов, будучи сознательным и непреклонным врагом тирании и эксплуатации, с большим сочувствием относился к тяжелой судьбе других народов России. В этом сказался гуманизм передовой русской литературы 60-х годов, ярким представителем которой был М. Л. Михайлов.
Как уже отмечалось, писатель-демократ проявлял исключительный интерес к декабристам и петрашевцам. Не случайно, что во время литературно-этнографической экспедиции 1856—1857 гг. он посетил в Оренбурге сосланного по делу петрашевцев поэта А. Н. Плещеева, который служил в линейном батальоне рядовым (1851 — 1858 гг.). Так же, как и М. Ю. Лермонтов, поэт Плещеев был направлен на театр военных действий. Он участвовал в штурме Ак-Мечети, за что его произвели в прапорщики. Такова была судьба одного из многих талантливых сынов России, обреченных царизмом на смерть под случайные пули.