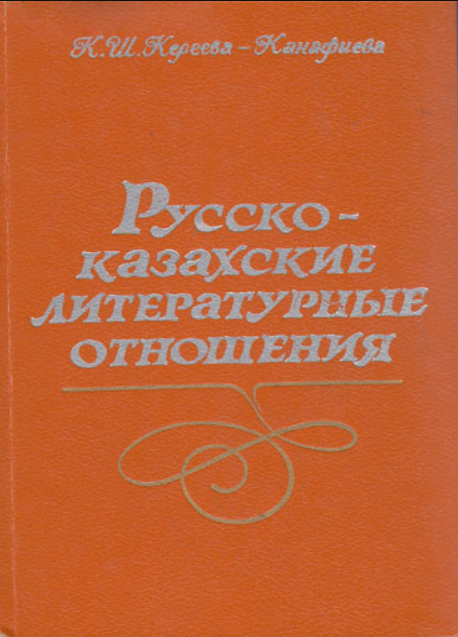Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 10
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
В романе «Преступление и наказание» (1866) есть эпизод, в котором использованы лично пережитые писателем в Омском остроге чувства, когда он, глядя в степь, завидовал ее обитателям. Любопытно в этом отношении сообщение вдовы писателя А. Г. Достоевской: «Перечитывая произведения моего незабвенного мужа, я часто встречала в них черты из личной его жизни, его привычки, приписанные героям романа, обстоятельства, случившиеся с ним или с его семьей, и, главным образом, его личные мнения». Это находит подтверждение в чувствах Раскольникова, сосланного в сибирский острог, когда он, как и когда-то сам автор в сибирской ссылке, «стал глядеть на широкую и пустынную реку» Иртыш. Раскольникову «с высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем непохожие на здешних, там как бы само время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила».
Почти тождественно Раскольникову ведет себя узник «Мертвого дома» (1860—1862). Наступающие весенние дни, по его мнению, «волнуют и закованного человека рождают и в нем какие-то желания, стремления, тоску». Весной, даже во время каторжной работы он вдруг замечал «чей-нибудь задумчивый и упорный взгляд в синеющую даль, куда-нибудь туда, на другой берег Иртыша, где начинается необъятною скатертью, тысячи на полторы верст, вольная (разрядка здесь и ниже моя.— К. К.) киргизская степь; подметишь чей-нибудь глубокий вздох, всей грудью, как будто так и тянет человека дохнуть этим далеким, свободным воздухом и облегчить им придавленную, закованную душу».
Любопытно описание работы заключенных на кирпичном заводе, отстоявшем от острога на расстоянии 3—4 верст. Несмотря на тяжелый характер труда, некоторые ходили туда даже с «охотою», потому что «место было открытое, привольное, на берегу Иртыша». Река манила и узника, от лица которого ведется повествование, тем, что «на берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный... простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу... Все для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза (казаха.— К. К.), приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь, наконец, какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуши; разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то хлопочет со своими двумя баранами. Все это бедно и дико, но свободно».
Русский писатель обращает внимание читателя не на белоснежные и большие юрты богачей, а именно на бедную и обкуренную юрту байгуши, то есть нищего, несчастного. В остроге были и русские нищие, «проигравшиеся и пропившиеся, или так просто, от природы нищие». Их тоже писатель называл казахским словом «байгуши».
Писатель психологически очень тонко объясняет, почему каторжные с такой тоской смотрели на казахскую степь, где было «бедно и дико, но свободно». Он писал, что свобода казалась у нас в остроге как-то свободней настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности». Писатель подчеркивал, что «арестанты преувеличивали понятие о действительной Свободе, и это так естественно, так Свойственно всякому арестанту». Поэтому-то последний завидовал какому-нибудь оборванному офицерскому денщику, как идеалу свободного человека, поскольку он ходил без кандалов и без конвоя». И казахи, не имевшие кандалов и конвоя, казались каторжанам идеалом свободных людей.
Интересен в романе и небольшой эпизод, посвященный пребыванию в остроге подбитого степного орла («карагуша», как писал Достоевский, по-казахски название царя птиц). Описывая измученную птицу, у которой было ранено правое крыло, писатель характеризует ее так: «Орел защищался из всех сил когтями и клювом, и гордо и дико, как раненый король». Орел здесь символичен и олицетворяет образ измученной и раненой Свободы. Не случайно, что он имеет степное происхождение. Сравните ранее приведенное описание казахской степи: «Бедно и дико, но свободно», а в эпизоде с орлом: «гордо и дико». Это понимают и каторжане, которые говорят об орле: «Птица вольная, суровая, не приучишь к остро-гу-то. И когда они решили выпустить птицу в степь, то «все были чем-то довольны, точно отчасти сами они получили свободу».
Каторжане «почти с любовью» смотрели «на злую птицу» и восхищенно говорили о ней, как о человеке: «Ему волю подавай, заправскую во лю-во л юшку... Знамо дело воля. Волю почуял... «Слобода значит». Между тем выпущенный из острога раненый орел уходил все дальше в степь, не оглядываясь, «как бы торопясь» туда, где была Свобода.
Орлом входил человек в острог, но затем «он гас... как свечка». Так писал Достоевский о С. Ф. Дурове, который «вошел» в острог «еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой». Но как и подбитый орел, Дуров сохранил крепость духа и веру в лучшее будущее. Его беседы оказали огромное влияние на формирование демократических взглядов Ч. Ч. Валиханова и Г. Н. Потанина.
Ф. М. Достоевский видел некую связь и преемственность между первыми дворянами-революционерами и последующими поколениями.
Касаясь обращения тюремного начальства с «дворянами-преступниками», автор отмечал, что «самое высшее начальство в Сибири... очень разборчиво и даже в иных случаях норовит дать им поблажку в сравнении с остальными каторжными, из простонародья». Одной из главных причин этого писатель считал появление в Сибири дворян-революционеров: «Еще лет тридцать пять тому назад в Сибири явились вдруг, разом, большая масса ссыльных дворян, и эти-то ссыльные в продолжение тридцати лет умели поставить и зарекомендовать себя так по всей Сибири, что начальство уже по старинной, преемственной привычке поневоле глядело в мое время на дворян-преступников известного разряда иными глазами, чем на всех других ссыльных».
В «Записках из Мертвого дома» Достоевский отмечал, что в остроге «каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей. Были и инородцы, было несколько ссыльных даже из кавказских горцев». Среди каторжан были и поляки. С теплым чувством описан автором образ черкеса Алея, его «милое лицо», детская, прекрасная радость.
Б. Л. Сучков, оценивая «Записки из Мертвого дома», писал, что это «пронзительно правдивая и человечная книга, ставшая одним из самых суровых обличений порядков в России». О документальной достоверности судеб многих политических заключенных, описанных в ней, свидетельствует публикация Николаевского в «Историческом вестнике».
На Достоевского и «других политических преступников» был заведен официальный документ: «Статейный список о государственных и политических преступниках, находящихся в омской крепости в каторжной работе 2-го разряда, июня 19-го дня 1850 года». В нем есть графа «За что осуждены в работу». Против фамилии Достоевского указано: «За принятие участия в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и покушение вместе с прочими к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии». В другом разделе этого документа отмечалось, что Достоевский в остроге «ведет себя хорошо». Наконец, в графе относительно знания мастерства и умения грамоты отмечено: «Чернорабочий, грамоту знает».
Выражением интереса писателя к мусульманам вообще, к казахам в частности, может служить упоминание об эпилептике Магомете в романе «Идиот» (1868). Сам страдая таким недугом, Достоевский в уста князя Мышкина вкладывает яркое описание картины болезни. Примечательно, что свое состояние во время коротких предвестников болезни («высочайших минут») князь сравнивает с положением «эпилептика Магомета, успевшего», в ту секунду, пока длился его припадок, «обозреть все Жилища аллаховы», хотя в течение той же секунды «не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой».
Қазахский мотив нашел отражение и в другом известном романе великого писателя—«Игрок» (1866), герой которого вступает в полемику с русским генералом и французом о путях приобретения капиталов. Он говорит, что «возмущает... (его) татарскую породу» немецкий способ «накопления богатств... А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, чем поклоняться немецкому идолу».
В черновых набросках романа «Подросток» (1875) сохранилось имя Валиханова. Оно связывалось с именем Версилова — мечтателя, поэта, «парижского коммунара». Таким образом, в чертах характера главного героя романа «Подросток» Версилова автор пытался сохранить образ дорогого ему Чокана Валиханова.
До своей ссылки Достоевский никогда не жил в провинциальном городе. И, естественно, «светская жизнь» провинциального Мордасова в «Дядюшкином сне» во многом отражает картину Семипалатинска.
Таким образом, в ряде романов и повестей Достоевского казахские мотивы нашли определенное отражение, хотя писатель и не создал ни одного произведения, посвященного казахам или героем которого был бы казах.
Великий писатель, оказавшись позже в круговороте сложных противоречий эпохи, как бы отодвинул на второй план казахские впечатления. Однако он никогда не забывал о них, проявляя к судьбе казахов постоянное внимание. В этом отношении характерен следующий эпизод. В период его работы редактором «Гражданина» была опубликована статья «Киргизские депутаты в С.-Петербурге», за что Достоевский был наказан гауптвахтой.
«Всеми силами души и таланта, всем усилием мысли и болью совести отозвался» он на сложные и мучительные вопросы трагической поры. Ф. М. Достоевский «пытался заглянуть через голову современности, ища окончательные, вневременные нравственные идеалы,— говорил старейший советский писатель К. А. Федин...— Нет, не смирению учил Достоевский. Всем своим творчеством он сказал: так дальше жить нельзя! И это понимали поколения русских революционеров».
«И еще я думаю о том,—писал Г. М. Мусрепов о Достоевском,— что для него не была чуждой казахская земля. Пусть бесправный солдат, нижний чин, но все же служба в Семипалатинске не шла в сравнение с каторжным острогом». Казахская земля, ее народ, великий Чокан Валиханов стали родными для гениального писателя, определив казахские мотивы в ряде крупнейших его произведений.
Таким образом, в становлении и развитии русско-казахских литературных отношений огромная роль принадлежит Ф. М. Достоевскому, оказавшему значительное нравственное влияние на формирование личности первого казахского ученого и литератора Ч. Ч. Валиханова. Взаимоотношения между этими выдающимися людьми могут служить примером бескорыстной дружбы сынов русского и казахского народов.
«ТУРКЕСТАНСКИЕ» РОМАНЫ Н. КАРАЗИНА, Н. ИЛЬИНА И ДРУГИХ НА КАЗАХСКУЮ ТЕМУ
Начиная с 60-70-х годов казахские степи и различные районы Средней Азии стали чаще посещать известные русские писатели, художники и композиторы. Если; в предшествовавшие десятилетия представители русской науки и культуры бывали здесь эпизодически, то с завершением присоединения Туркестана к России их поездки стали более или менее регулярными. А это нашло свое выражение и в характере литературных трудов: вместо небольших и разрозненных заметок и статей, посвященных описанию экзотической стороны жизни «номадов», появились фундаментальные научные, научно-популярные исследования, а также литературные произведения крупных и малых жанров — романы, повести, рассказы, очерки.
Всеобщий интерес к казахским степям и казахам во второй половине XIX в. в русском обществе был обусловлен многими причинами. Если русскую буржуазию край интересовал как возможный рынок сбыта и источник дешевого сырья, то демократическая часть русского общества принимала близкое участие в судьбе казахского народа, стремясь вовлечь кочевников в русло общечеловеческой цивилизации и прогресса.
Заметный вклад в освещение социально-экономических условий жизни казахского народа внесла большая группа русских писателей второй половины прошлого века —Н. Каразин, Н. Ильин, Н. Уралов, Н. Стремоухов, П. Инфантьев, Д. Иванов и др. Их литературная деятельность заслуживает тем более внимательного рассмотрения, что она была тесно связана с Туркестаном. В творчестве этих писателей представлена широкая панорама русско-казахских отношений, картины быта, нравов и обычаев казахов и узбеков, выражены братское сочувствие и искренняя симпатия к этим народам; наконец, в их произведениях отчетливо отразилось стремление познать внутренний мир человека, к какой бы национальности и вероисповеданию он не принадлежал. Ценно и то, что фактический материал в той или иной степени подвергался осмыслению и обобщению. Авторы стремились правдиво воспроизвести типичные характеры представителей коренного населения, действовавших в типичной для них обстановке. Как известно, Ф. Энгельс именно это обстоятельство считал важным художественным принципом реалистического искусства.
Казахская тематика широко отражена в творчестве русского писателя Н. Н. Каразина (1842—1908).
Николай Николаевич Каразин — своеобразный человек, журналист, художник, этнограф, писатель — прошел длинный путь и признания и отрицательной критики. Его романы пользовались успехом в 70-е годы, так как в них описывались «ташкентские рыцари». Впоследствии к ним потеряли интерес, прекратили перепечатывать и романы стали библиографической редкостью. А между тем именно Н. Н. Каразин долго жил в Туркестанском крае, участвовал в двух военных походах как корреспондент и художник и в двух научных экспедициях. Будучи наблюдательным художником, он многое сумел уловить в происходящих событиях того времени, познакомился с жизнью местного населения, которую и попытался изобразить в своих произведениях.
Широкую известность Каразину доставили его многочисленные романы и повести, очерки и рассказы, посвященные русско-казахским отношениям, первым шагам России в Туркестане. Не обладая ярким талантом большого писателя, он тем не менее заставил говорить о себе как читающую публику, так и критическую литературу.
Статьи, очерки, рассказы Каразина печатались во многих русских журналах и газетах («Дело», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русские ведомости»-, «Всемирная иллюстрация», «Нива», «Север», «Природа и люди», «Живописное обозрение» и др.), а также на страницах английской, швейцарской и другой зарубежной печати.
Н. Н. Каразин был плодовитым писателем. Его беллетристические произведения составляют около 20 томов, исключая статьи по этнографии народов Туркестана, а также записи о путешествиях и корреспонденции. Его «туркестанские» романы, повести и очерки («На далеких окраинах», «С Севера на Юг», «В камышах», «Двуногий волк», «Погоня за наживой», «Голые нравы», «Тигрица» и др.), в основном посвященные казахским степям, в свое время наделали много шума, читались нарасхват и сравнительно радушно были встречены критикой.
В произведениях Н. Н. Каразина, в частности, романах «На далеких окраинах» (1875) и «Погоня за наживой» (1876) можно отметить достоверные и тонкие наблюдения за жизнью и бытом народов Туркестана. Вместе с тем Каразин пытался показать действия своих героев на фоне ложного романтизма, рисуя нередко излишне сложную и экзотическую обстановку, описывая неправдоподобные приключения (например, рассказы «Катастрофа на Кастекском перевале в Туркестане» и «Страшное мгновение» написаны, чтобы «растрогать нервы впечатлительных читателей»). Это, конечно, представляло известный интерес в определенном кругу читающей публики.
Русская критика в целом правильно оценивала идейно-художественные достоинства каразинских произведений, отмечая положительные стороны творчества писателя. Так, критик Н. Никитин («Дело», 1875, № 1, Спб., стр. 1—33) писал, что хотя Каразин на литературном поприще и выступает «очень недавно», но «уже успел приобрести литературную известность, составить себе имя, у него есть свой круг читателей и даже почитателей его таланта». Основное достоинство произведений писателя критик видел в том, что в них даны «живые» картины, списанные с натуры. Именно они-то и «драгоценны», поскольку дают некоторое представление о жизни коренного населения Туркестанского края.
В романе «На далеких окраинах» много страниц посвящено казахам. Но, к сожалению, нравы, обычаи, особенности быта, любовь и ненависть и т. д. показаны в основном через восприятие Батогова, вчерашнего петербургского офицера, легкомысленного и вместе с тем бессердечного человека. Прослышав, что «где-то далеко на Востоке открылась какая-то страна» и что «там обещают льготы и можно отхватить куш порядочный», Батогов едет в Туркестан, но попадает в плен к барантачам-грабителям.
Находясь в плену у богатого казаха Кадргула, Батогов на удивление кочевникам поет песни или рассказывает сказки, иногда пляшет вприсядку и играет «на Туземной балалайке» знакомый мотив «барыни». И все же подневольные работники-казахи с неприязнью относятся к нему, хотя во всем равны с пленным: так же таскают воду из колодцев, так же целые дни стерегут от волков необозримые хозяйские отары.
Отчуждение работников к пленнику писатель склонен объяснять различием вероисповедания. Однако не религиозные различия лежали в основе их недоброжелательности, а, надо полагать, несерьезное отношение пленного к своей судьбе и более того его «роман» с Нар-Беби, женой своего владыки. Тяжелые испытания плена «герой» переносит сравнительно легко, надеясь на освобождение, которое ждет от джигита Юсупа, и тот помогает.
Но Батогов жестоко пренебрег добрым отношением к себе простых казахских тружеников и полюбившей его женщиной, которую убивает во время побега. Отсюда и грубые его выпады, и отчетливо выраженная тенденциозность в описании казахских женщин, работников богача Кадргула и некоторых сторон кочевой жизни.
Автор лишь внешне очертил не только эпизодичные фигуры казахов, но и образы главных героев. Их психология, переживания, чувства раскрыты поверхностно. Наиболее полно в романе дан лишь образ Перловича — чиновника, коммерсанта, ростовщика, поглощенного жаждой обогащения. Весь он как нельзя лучше раскрывается в одном из своих монологов: «Изучая эти самые потребности, изыскивай все способы к их удовлетворению, предупреждай их, если сможешь. В этом-то и кроется вся сила, вся тайна науки обогащения. С пустыми руками приезжают сюда (в Туркестан.—К. К.) люди, и, смотришь, через год уже ворочают изрядными рычагами, действуют; а ведь люди эти из той же глины сделаны — не из золота. Расщедрилась судьба, послала тебе, средства и средства изрядные; мозгами тоже не обидела,— ну, и орудуй».
Действительно, к приехавшему в новый край со скромным имуществом (тюк, чемодан, железная кровать и закопченный медный чайник) Перловичу судьба была милостива: он находит на дороге огромную сумму денег, которую оставили степные грабители, не умеющие ценить бумажные ассигнации. Последние принадлежали другому дельцу, собиравшемуся в Ташкенте строить водочный завод и наживать барыши, но он пал жертвой грабителей. А предприимчивый Перлович между тем орудует. Следуя вместе с войсками, он ловко грабит и русских офицеров и местное население, действует разлагающе на все окружающее. Расчет коммерсанта полностью оправдался. Писатель показывает не только растущую ность Перловича, но и его бесчеловечность: ростовщик преднамеренно сбивает своим конем старого нищего «туземца» вместо того, чтобы оказать ему помощь.
Следует обратить внимание и на верно подмеченный Н. Н. Каразиным факт, что казахи в основной своей массе относили себя к мусульманам лишь формально. Они «смешивали Магомета с самим Аллахом, не знали ни одного стиха из Корана... чем именно их вера отличается от какой-либо другой, но знали только, что они мусульмане, правоверные» (178).
Официальная критика резко отрицательно встретила роман «На далеких окраинах», считая, что в нем притянуты «за волосы безобразно ужасные» эффекты и что «ташкентская цивилизация положила на... романиста свое клеймо в весьма значительной степени». Вместе с тем обличительный характер произведения в рецензии был игнорирован.
Роман «Погоня за наживой» является продолжением романа «На далеких окраинах». Н. Н. Каразин создал здесь образ туркестанского Ноздрева, господина «с громадными русыми бакенбардами с проседью», который «громко и энергично» рассказывал своим соседям о жизни в казахских степях и Средней Азии. Он хвастливо заявлял, что едет «туда вот уже третий раз», что его «раз двести кусали фаланги, тарантулы и скорпионы, но «ничего, обтерпелся». Слушателей еще более удивляли невероятные рассказы враля о степных станциях. Его* «Спасительная опытность» заключалась в использований нагайки («альфы и омеги путевой премудрости»,—говорит он), чтобы добиться лошадей. Между тем существовали «почтовые правила о взимании прогонов и непричинении никаких обид и увечий ямщикам и смотрителю». Каразин разоблачает подобных «господ-ташкентцев», едущих за наживой в новый край и пренебрежительно относящихся к «инородцам», унижающих их человеческое достоинство. Эти мелкие чиновники и обанкротившиеся бывшие «деятели» мстят за свои неудачи в жизни бедным ямщикам-казахам, которых подвергают подчас тяжелым истязаниям. В романе объективно показана жестокая конкурентная борьба между капиталистическими акулами (Лопатин, Перлович и др.), основная цель которых — приумножение богатства.
Есть в нем и неудачная любовь: молодой геолог Ледоколов случайно оказался свидетелем измены своей жены и решил уехать в Туркестан. Туда же, за пять тысяч верст, где «киргизы, тигры, тарантулы», едут обедневшие аристократы Брозе (мать и дочь), которых пригласил богач Лопатин, обещавший «нежить да холить», чтобы они «как сыр в масле» катались (18—19). Пути неудачников сошлись в Самаре где происходит встреча Ледо-колова и Адель Брозе. Завязывается любовная интрига.
Но дальнейший путь на Ташкент Ледоколов совершал вдвоем с Бурченко, наняв ямщиком казаха. Навстречу им попались верховые казахи, которые неохотно уступили дорогу экипажу и хмуро смотрели на путников. Когда Ледоколов сказал об этом Бурченко, то последний ответил: «Не с чего им барашками прикидываться». Действительно, многочисленные искатели счастья, проезжая через степи, вызывали своим поведением недоверие и неприязнь у местного населения. Это и имел в виду Бурченко, который с полным пониманием и искренним сочувствием относился к казахам, очень тесно сблизился с ними, изучил их язык, познакомился с обычаями, нравами и обрядами народа.
Когда экипаж попал в трясину, то по просьбе Бурченко верховые казахи помогли вытащить его. В беседе с с ними он выяснил, что кочевники очень дешево продали баранов в Орске, потому и ехали хмурые. В пути Бурченко затянул вместе с ямщиком-казахом песню. Остановку они сделали в казахском ауле, где их гостеприимно встретили. Одна из смуглых красивых девушек подошла к Ледоколову, прося подарок и обещая за это вечером «постель оправить и спину почесать». Бурченко объяснил спутнику, что ничего в этом нет удивительного, если вспомнить, как Коробочка предлагала Чичикову послать ему девочку почесать пятки.
Пока Ледоколов и Бурченко добирались до Ташкента, там крупный делец Лопатин решил перекупить у Перловича фабрику и развернуть производство шелка. Для респектабельности ему нужна красавица Адель, которая теперь, находясь в больших материальных затруднениях, полностью зависела от него. Возможность подобного исхода взаимоотношений с Лопатиным Ледоколов предвидел и предупреждал об этом Адель. Но она и сама знала, что служит игрушкой в руках денежного туза.
Завершается роман, как и «На далеких окраинах», нападением барантачей, в стычке с которыми погибает Ледоколов, а Бурченко спасается чудом. В насыщенном драматическими событиями и острыми эпизодами произведении его герои опять же изображены лишь отдельными мазками.
Много внимания в романе уделено казахам, о которых приводятся интересные этнографические сведения. Они даны как с позиции Ледоколова и других, впервые встретившихся с кочевниками, так показаны и через призму дружеских взглядов Бурченко, обстоятельно знакомого с их жизнью. Отсюда и противоположные оценки казахов и различные отношения к ним со стороны русских.
Каразин, как и в других «казахских» романах и повестях, с пониманием и симпатией относится к кочевому народу, с большим тактом пишет о его своеобразных обычаях, подчеркивает его гостеприимство, рисует яркие картины вечернего аула.
В одном из разделов романа «Образцы самого точного перевода с киргизского (казахского) на русский» Каразин создал совершенно оригинальный тип чиновника — казаха-переводчика, «лица, по-видимому, самого незначительного по роду своей служебной деятельности, но на самом деле не так уж маловажного, как это кажется сначала». Действительно, там, где власть находилась в руках лиц, незнакомых с местными языками, переводчик (толмач) играл важную роль: он и «передатчик воли и распоряжений начальства, он же бесконтрольный истолкователь того и другого; он неизбежный посредник между жалующимся и лицом, которому приносится жалоба; он докладчик по всякому делу, возникшему между туземцами». Ему, находящемуся между казахом, не знающим русского языка, и русским, не знающим казахского языка, «открывается обширное поприще эксплуатировать и того, и другого».