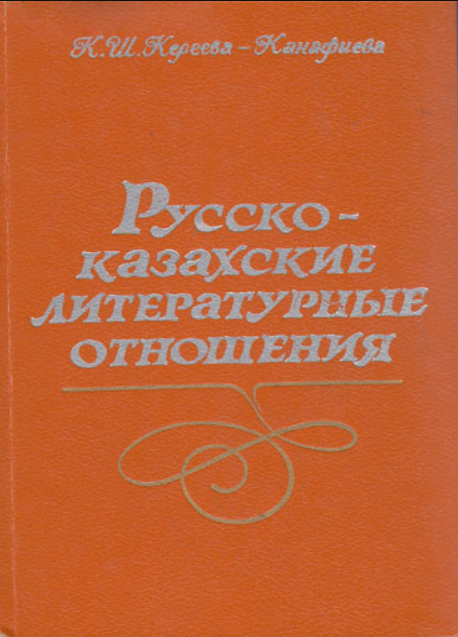Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 19
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Верещагин принадлежал к художникам, создававшим свои творения по горячим следам событий, в которых он принимал непосредственное участие. Своими глазами наблюдал он многообразную жизнь войск и различных народов Азии и Европы. Не случайно, что за 10 лет до своей трагической гибели художник писал в воспоминаниях: «Уж полно: я ли это все пережил и перечувствовал — так много в нем всех родов впечатлений и треволнений».
В творениях художника сохранились для истории многие стороны своеобразной жизни народов Средней Азии и Казахстана в 60—70-х годах XIX в. В. В. Стасов отмечал, что «Верещагин... принадлежит к числу самых значительных, самых драгоценных художников — историков нашего века». Его неотвязно мучили и постоянно волновали судьбы народов. Именно им «однажды навсегда посвятил жизнь и кисть свою» В. В. Верещагин. Так писал В. В. Стасов.
Свои богатые впечатления от путешествия по Средней Азии и Казахстану художник выразил не только в туркестанской серии картин, впоследствии целиком приобретенной П. М. Третьяковым для своей галереи, но и в книгах: «Очерки, наброски, воспоминания» (Спб., 1883) и «На войне в Азии и Европе. Воспоминания (М.,1894), в которых он критически отзывался о политике царизма в Средней Азии.
Значительное место в туркестанской серии занимают произведения, посвященные казахской тематике. Созданию их предшествовало посещение художником мест поселения «киргизов Талинского рода», живущих «в пространстве между Ташкентом, Чиназом /и Ходжентом». Предки их в давние времена «пришли сюда войною с запада, по скончании которой часть их воротилась назад, а другая, не имевшая средств, осталась здесь». Значительная часть талинцев осела и занималась хлебопашеством. Художника интересовали типы талинцев. Однако он затруднялся принять их как за узбеков, так и за «кровных» казахов.
Приезд русского художника вместе с сопровождавшими его спутниками в аул талинцев вызвал живой интерес его обитателей. Как пишет Верещагин, «по обыкновению множество народа тотчас же явилось» к русским «в гости», чтобы «пожелать здоровья». И по мере того, как раскладывались вещи художника и «развьючивалась» его «собственная особа», любопытство жителей аула «усиливалось»: «Непременно все им покажи, расскажи», в чем художник, конечно, не отказывал. Зрители выражали свое удивление «на разные лады: один щелкает языком и совершает это очень долго, сначала быстро, потом все медленнее и медленнее, как бы замирая; другой вытаращит глаза и твердит протяжно: «па! па! па! па! па!»; третий весь как-то раскачивается; четвертый, наконец, просто немеет от удивления и только по временам отряхивается, как от чертовщины».
Верещагин приводит красочное описание переправы через бурную реку с помощью казахов: «Сначала пустили двух лошадей понадежнее, попробовать, как они терпят воду; два киргиза в одних только коротеньких штанах сидели на них верхом». Несмотря «на страшное течение», переправа закончилась благополучно. «Бедные киргизы,— писал Верещагин,— страшно передрогли и запросили араку (водки), но так как его не оказалось, то мы попоили их чаем» (77—78).
Во время посещения кочевки казахов Талинского рода художник обратил внимание на их чрезвычайную бедность. Он «побродил по палаткам и в некоторых был так нескромен, что развернул и раскрыл все мешочки, узелки, тряпочки, лежавшие по углам и висевшие по стенкам кибитки: тут просо, немножко риса или конопли; там шерсть, лоскутки и разная хурда-мурда незатейливого, неприхотливого быта; стоит станок для пряжи хлопчатой бумаги, скатанной для этого в трубочки».
Такая чрезвычайная любознательность художника позволяла ему создавать реалистические полотна, посвященные незатейливому, неприхотливому быту кочевников. Последние сами тянулись к В. В. Верещагину, ценя его простоту и дружелюбие (старой казашке, допрявшей начатый моток, художник выразил удивление и улыбнулся— улыбнулись и казахи, оценив его простоту).
Некоторое представление о характере работы художника над туркестанской серией картин можно получить из его литературных трудов. Так, в путевых очерках В. В. Верещагина «От Оренбурга до Ташкента (1867— 1868)» содержатся весьма ценные наблюдения автора над жизнью казахов.
В Оренбурге, расположенном на границе Европы и Азии, Верещагин обратил внимание на «восточный характер города». Он посетил городскую тюрьму, разыскивая «характеристические головы», и, найдя, «обогатил свой альбом лицами преступников». К сожалению, времени у художника было немного, а арестанты приняли его за «официальное лицо» и осыпали просьбами. Когда же они узнали, что Верещагин не важное должностное лицо, он «значительно потерял в их внимании, но зато выиграл в своем спокойствии» (1).
Верещагин, как и многие русские ученые и путешественники, обратил внимание на Меновой двор Оренбурга, куда стекались со всех сторон казахи, бухарские и хивинские купцы. Казахи приводили с собою быков, коров, овец, привозили войлоки, кошмы и шерсть. Все это они продавали или обменивали на деревянную утварь, хлеб и посуду (2).
Городские лавочники выставляли большие запасы войлочной ткани, продавали женские наряды, стеклянные и металлические украшения, «дешевая цена которых соблазняет дочерей Евы». Художник отмечал, что «войлочные ткани киргизской выделки бывают весьма хорошего качества» (2).
В Меновом дворе русский художник впервые попробовал вкус кумыса. Напиток оказался некрепким, но чрезвычайно кислым. Верещагин полагал, что кумыс, повидимому, был наполовину разбавлен овечьим молоком. Казахи покупали мешками хлеб и возвращались с ним в свои аулы иногда за сотни верст.
В оренбургских степях художник часто видел двугорбых верблюдов. Но они, по мнению автора, обладают меньшей сопротивляемостью к голоду и жажде, чем одногорбые (дромадеры). Верблюды, вероятно, воспринимают звуки, поскольку обращают внимание на пение или свист. В этих наблюдениях весь В. В. Верещагин: от его зоркого взгляда не ускользают даже такие детали, как способность «кораблей пустынь» воспринимать звуки.
Художник осуждает «варварство степных жителей» в обращении с этими столь полезными животными. Однако верблюды серьезно «наказали» художника за его «новую фантазию»: будучи запряженными в его тарантас, они сломали экипаж. Тарантас оказался слишком легким для этих, как писал художник, «проклятых животных».
Близ станции Теректи художник встретил казахскую могилу. Памятник был «образован большим и тяжелым куполом, лежащим на четырехкупольнике». Все здание сооружено без единого камня, только из сырцового кирпича. Внутренние стены строения, где находились три гробницы, были покрыты различными украшениями (грубые рисунки оружия, лошади, каравана). Художник видел множество подобных надмогильных сооружений.
Верещагина интересовали бедные жители небольших казахских аулов. Он с любопытством входил в юрты бедняков и видел там женщин, которые стригли овец или перетряхивали шерсть. Автор отмечал, что женщины «работали везде, а мужчины везде ничего не делали» (14).
Как известно, Н. Н. Каразин в своем романе «Двуногий волк» описал происки Садыка. Естественно, и Верещагин не мог не обратить внимания на действия этого авантюриста. Он писал: «В воздухе носились тревожные слухи. Между киргизами (казахами.—К. К.) говорили, что Садык приготовлялся взять Казалу (Казалинск.— К. К.)- Многие уже снимали свои палатки (юрты.— К. .К.) и переправлялись через Сыр-Дарью, зная очень хорошо, что бунтовщик будет все грабить на пути, не различая ни друзей, ни врагов» (14). И Верещагин и Каразин отмечали беспринципность Садыка, грабившего «и друзей и врагов».
Русский художник пользовался гостеприимством одной казахской семьи, состоявшей из отца, матери и двух дочерей (13 и 9 лет). А взрослый их сын жил в форте среди русских. Глава семьи был «смышленый человек, лет около сорока». Он постоянно носил широкий белый халат из верблюжьей шерсти, а его голову покрывала «топпе». «В холодное время года он надевал в дорогу огромную, чрезвычайно высокую меховую шапку, сделанную из бараньей шкуры и суживающуюся постепенно к вершине» (18).
Художника интересовали и туалеты женщин. Хозяйку юрты автор характеризовал как болтливую и состарившуюся раньше времени настоящую казахскую правительницу. Она имела плоский нос, узкие глаза, выдающиеся скулы, носила широкие панталоны, заткнутые в сапоги, длинную синюю рубашку, а на голове и затылке была намотана целая полотняная гора.
Старшую дочь автор описывает как молчаливую, сильно развитую физически девушку, которая одевалась, как мать, но носила на руках и шее браслеты и ожерелья из разноцветных бус и камней. Ее черные, как уголь, волосы были заплетены в мелкие косички. Младшую дочь автор характеризовал как прелестную, капризную, но живую девочку, которая храбро играла с художником. Она не носила на голове никакой повязки, волосы ее были обриты. Когда с закатом солнца художник возвращался в юрту, он обыкновенно «заставал все семейство вокруг огня». Юрту наполнял дым. Мать и старшая дочь постоянно работали. Они варили суп или готовили блины.
В казахских семьях художник видел ручную мельницу, сделанную из двух плоских камней. Такая мельница давала муку грубого помола. Верещагин отмечал, что в меню бедных казахов мясо встречается редко. Он писал: «Во время моего посещения его ели только раз, и то одни мужчины» (19).
Юрта, где жил автор, была ветхая, но огонь в ней горел постоянно, и художник никак не мог «свыкнуться... с вечным дымом». Верещагин указывал, что казахи «не обращаются с детьми подобно нам, несколько фамильярно и покровительственно. Их почти никогда не бранят, и смотрят на них почти как на больших». Вот почему «маленькая своевольница... кибитки читала иногда нравоучения своему отцу».
Посетив известный мавзолей в г. Туркестане, художник с сожалением отмечал, что «прекрасные рисунки из цветной эмали, которыми были покрыты... купола и вся восточная стена» мечети Ходжа Яссави «теперь большею частью обвалились». «Вход в это священное место строго воспрещен»,— писал Верещагин, но ему удалось «попрать этот грозный порог» — и всего за 20 копеек, положенных в руку сторожа. Художник там видел и огромный медный чан, где варилась некогда пища для богомольцев (22).
В главе «Из путешествия по Средней Азии» В. В. Верещагин указывал, что нищенство в Туркестанском крае «сильно развито и хорошо организовано». Далее он писал: «Нищая компания составляет род братства с одним главою; глава этот потомок того святого, который дал организацию нищенствующему люду и закрепил за ним полученную от общества землю, дарованную для всех желающих пристроиться на ней, сделаться диваном». Можно считать, что члены этого своеобразного ордена служили верой и правдой верховному главе мусульманского духовенства Туркестана.
В. В. Верещагин был не только выдающимся художником и талантливым беллетристом. Он писал также стихи. В рукописном отделе государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде сохранился автограф стихотворения «Забытый», принадлежащий перу Верещагина и имеющий отношение к теме исследования. Содержание этого поэтического произведения, по-видимому, навеяно автору незабываемым зрелищем борьбы орла и ястреба — двух величественных птиц степных просторов Азии.
Таким образом, как в создании литературных произведений (очерки, воспоминания), так и произведений живописи В. В. Верещагин исходил из богатого личного опыта, основанного на непосредственном наблюдении за окружающей действительностью. Типы казахов, правдиво и талантливо изображенные художником и беллетристом
В. В. Верещагиным, реалистически описанные им сценки обычной жизни кочевников и сегодня представляют большую познавательную ценность.
Средней Азии и Казахстану посвятил ряд серьезных литературных трудов известный русский писатель Е. Л. Марков. Примечательно, что когда он впервые познакомился с жизнью «далекой азиатской окраины», когда перед ним, «как в волшебном фонаре, сменялись... характерные типы и лица», ему показалось, что он уже видел где-то эти образы и что раньше жил этой жизнью, И услужливая память подсказала, что перед ним «повторяются теперь в живом виде типы и сцены, художественно воспроизведенные когда-то талантливым знатоком Туркестана Каразиным в его первых романах и повестях из среднеазиатской жизни». В этих своих впечатлениях Марков видел «лучшее доказательство достоинств» литературных произведений Каразина.
Е. Л. Марков родился в Щигровском уезде Курской губернии в старинной помещичьей семье. Образование получил в Курской гимназии и в Харьковском университете, который окончил кандидатом естественных наук. С 1859 г. стал преподавателем, затем инспектором гимназии. Его статья (1862) о яснополянской школе Л. Н. Толстого привлекла внимание министерства народного просвещения. Маркову было предложено место в ученом комитете. Затем он был назначен директором симферопольской гимназии и народны училищ в Крыму. В 1870 г. Марков оставил службу. С конца 80-х годов он становится управляющим Воронежским отделением дворянского и крестьянского банков. Из родового имения и Воронежа Марков предпринял ряд поездок за рубеж: в Италию, Турцию, Египет, Грецию, Палестину. Много поездил писатель по стране. Был в казахских степях, Средней Азии, что впоследствии нашло отражение в его путевых очерках «Россия в Средней Азии» (два тома, шесть частей).
Представляет интерес, что после возвращения из самарских (вернее, оренбургских.—К. К.) степей Е. Л. Марков посетил в Ясной Поляне Л. Н. Толстого, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях Н. Н. Апостолов. Встреча эта оказала благотворное влияние на характер литературной деятельности Маркова, определив в известной мере гуманизм позиции этого писателя.
В путевых очерках «Россия в Средней Азии» содержатся любопытные положения о роли России на Востоке, в частности, о значении Закаспийской железной дороги в жизни Средней Азии. Автор писал, что «две железные нити», чуть чернеющие среди пустыни, связывают, как железным скрепом, «далекие друг от друга и всегда разобщенные человеческие миры». Они, «как железные оковы, легли на все враждующие разрушительные силы, разобщавшие Европу от Средней Азии». В этих своих сравнениях Марков идет дальше, считая, что с открытием первой железной дороги из России в Среднюю Азию по ее гладким рельсам «с неудержимою быстротой покатились и ворвались в сердце Азии не только товары Европы но европейские обычаи, европейские взгляды, европейские знания».
Е. Л. Марков, подчеркивая, что он «никогда не был сторонником завоеваний и присоединений к России азиатских стран», ссылался на свои неоднократные выступления в печати со словами осуждения этой политики. Вместе с тем он полагал, что России суждено самой историей «нести тяжелый крест» по цивилизации «полудиких азиатских племен», ей «предначертано водворять своим потом и кровью мир и порядок». Писатель ошибочно полагал, что движущей силой этой политики царизма в Средней Азии была цивилизаторская миссия. Как известно, дело обстояло значительно сложнее.
Цивилизация народов Средней Азии и Казахстана проходила вопреки намерениям царизма. На завоевание этих районов царизм подталкивала алчная русская буржуазия, которой необходимы были и обширные рынки сбыта, и свободная рабочая сила, и дешевое сырье и т. д. Но Марков был прав, рассматривая Закаспийскую дорогу (протяженностью в полторы тысячи верст), как «железную цепь», которой отныне Азия привязана к Европе. Он писал и о поразительном впечатлении, которое произвела постройка железной дороги на «туземцев» Средней Азии: они поняли, что «на шею их надет железный ошейник, которого они не в силах будут снять ни при каких условиях».
По мнению писателя, постройка Закаспийской железной дороги была наглядным подвигом русской силы, перед которым побледнела «слава всяких Тамерланов и Искандеров». Рельсовый путь дал громадный толчок среднеазиатской торговле, способствовал зарождению крупных фабричных и заводских предприятий, ускорил возникновение промышленных центров. Капиталистические предприятия в Средней Азии получили условия развиваться «не по дням, а по часам».
Многие страницы книги Е. Л. Маркова посвящены казахам. Он описывает устройство жилищ, характеризует обычаи, нравы и обряды кочевников. Юрту писатель сравнивает с костяным шарообразным панцирем черепахи. С движением ее сопоставляет он и идущую туземную арбу с ее круглым верхом, раскачивающуюся из стороны в сторону. Немало внимания автор уделил детальному описанию отдельных атрибутов национальной одежды. Так, в Голодной степи он встретил казахов в «растрепанных зимних малахаях на меху с затыльником и наушниками». Но попадались кочевники и в более легких шапочках из белого войлока.
Е. Л. Марков видел казахских мальчишек-почтарей, гордившихся тем, что они находятся на казенной службе, а не простые вожаки верблюдов. Автор обратил внимание и на крупные размеры верблюдов. Но к этим гордым животным с их презрительным взглядом никакого почтения не испытывают мальчишки, которые отчаянными криками и маханием рук подгоняют четвероногих фило-софов-молчальников к местам погрузок.
В степи писатель встречал своеобразные сооружения, которые принял за «индусские пагоды». Однако ямщик-казах, сверкая белыми зубами, объяснил, что это колодцы Тамерлана («Тамерланов кудук»,— писал автор). Один из «Тамерлановых кудуков» находился недалеко от почтового тракта. Это было грандиозное сооружение «вполне царственное», как отмечал Марков. Он писал: «Гигантский каменный шатер не сложенной, а скорее искусно сотканной из мелких плоских кирпичиков несокрушимой крепости поднимается вверх концентрическими ступенчатыми кольцами. И, как шапкой, покрывает своим обширным куполом глубокую цистерну, в которой теперь устроен колодец. Вход в этот каменный шатер один, лощина, собирающая дождевые воды из своих ветвистых отвершков, впадает как раз в этот открытый зев кудука и несет к нему в периоды дождей как по природному желобу, степные потоки».
Как и в древние времена, вокруг водохранилища толпилось множество арб, нагруженных верблюдов, утомленных всадников. Внимание автора привлекла живописная группа местных торговцев и путников, сидевших в тени купола.
Марков полагал, что «нет твердых исторических данных считать эти цистерны созданием Тамерлана». Однако местные жители, привыкшие приписывать этому завоевателю все, что уцелело от древности, и все, что носит на себе печать величия, утверждали, что колодцы построены именно Тамерланом. Автор отмечал, что лично он с особенным доверием относится «к таким живым преданиям народа», что «эти колоссальные общенародные сооружений, которые должны были напоить страшную для всех Голодную степь и сделать дорогу через нее такою же удобною, как улицы Самарканда, могли быть замышлены и исполнены только смелым и широко парившим духом, какой проявляется во всех предприятиях Тамерлана».
Для подтверждения своего мнения Марков ссылается на путевки записки испанца. Рюи-Гонзалеса Клавихо, который в 1403 г. ездил в ставку Тамерлана от кастильского короля Генриха III. Клавихо писал, что Тамерлан заботился об устройстве удобного проезда по безводным степным местам своей империи. Так, в степи были сооружены почтовые станции на 100—200 лошадей через каждый день пути, построены огромные постоялые дворы, к которым были проведены водопроводы.
Но подобные почтовые тракты существовали, по-видимому, и до Тамерлана. Сохранилось, например, свидетельство французского монаха Плано Карпини, посланного в 1246 г. папой Иннокентием IV миссионером в Азию. Направляясь ко двору Чингис-хана, он проехал по земле «кангиттов», в которой нетрудно угадать безводные казахские степи и которую невозможно было миновать, не пользуясь водой колодцев.
Из записей Карпини «Libellus historicus Joannis de Plano Carpini» известно, что русские еще в те далекие времена имели постоянные сношения с народами Востока. На своем долгом пути Карпини часто встречал русских, а их язык служил Чингис-хану для дипломатических связей с. иностранными державами. При его дворе были громотные русские люди.
Е. Л. Марков дает определение половцам. По его мнению, это название, общее для многих народов, кочевавших в «поле», как называлась в древности незаселенная степь. Половцы — жители «поля», степняки, кочевники.
После довольно длинных экскурсов в историю, Марков описывает хозяйственную жизнь казахов, обращает внимание на переход части казахского населения, жившего под Ташкентом, на оседлость. Они строили дома, целые кишлаки, занимались хлопководством, рисосеянием. Казахи оказались нетребовательными работниками у богачей: они легко выносили и жару, и сырость и работали не разгибая спины.
Во втором томе книги «Россия в Средней Азии» Марков писал о Е. П. Ковалевском, который во время путешествия по Туркестану в 1849 г. видел своими глазами в городе Ташкенте «пирамиды» кокандских голов и человека, умиравшего на колу посреди площади, а за городом— несколько подобных «пирамид» отвратительно гниющих голов.
Марков подчеркивал, что присоединение к России «всех этих... мелких ханств... Кокандского, Бухарского, Хивинского... является... одним из самых отрадных событий всемирной истории». Писатель правильно понял, что для народов Туркестана было большим благодеянием, когда вместо «жестоких и алчных деспотов, помышлявших только о наживе и утехах», воцарились в крае закон и строгий порядок. Однако он не пожелал заметить, что этот процесс царизм осуществлял антинародными, а нередко тоже варварскими средствами.
В книгах Е. Л. Маркова, посвященных казахским степям и Средней Азии, дана широкая историческая перспектива. Особое внимание автор уделил роли России на Востоке. Сочувственно относясь к казахам и другим народам Туркестана, осуждая варварство отсталых ханств, писатель вместе с тем некритически воспринимал колонизаторскую политику царизма. В произведениях Маркова сохранились отдельные верно подмеченные детали быта и нравов казахов. В этом их ценность и значение для нас.
Таким образом, очерки и рассказы Е. П. Ковалевского, Д. Л. Иванова, В. В. Верещагина, Е. Л. Маркова составляют важную главу в истории русско-казахских литературных отношений. Вместе с тем в большом потоке информации о новом крае был чрезвычайно пестрый материал. В многочисленных статьях, очерках, заметках, записях и т. д. нередко повторялись одни и те же данные о казахах, о Туркестанском крае. Многие чиновники, проезжая в Ташкент через казахские степи, передавали свои наблюдения крайне поверхностно, а в иных случаях даже тенденциозно. Тем не менее страницы русской печати охотно предоставлялись подобным авторам.
И все же при тщательном изучении многочисленных источников указанного рода удается извлечь крупицы нового, свежего. К сожалению, объем работы не позволяет более подробно проанализировать отдельные интересные публикации. Поэтому ограничимся лишь общим обзором некоторых очерков, рассказов и статей, посвященных казахам.
В русской литературе XIX в. были широко известны имена Д. Н. и Д. Д. Минаевых. Последний в рассказе «Пленница» (из записок о хивинской экспедиции 1839 г.) описал судьбу казаха-фельдъегеря, доставлявшего корреспонденцию от главнокомандующего в Оренбург с важными докладами государю.
Краткий обзор истории русско-казахских взаимоотношений дан в очерке Ф. Лобысевич а. При Сухтелене и Перовском началось оттеснение казахов в глубь степи, поскольку значительная часть их земель отошла во владения Оренбургского казачьего войска. Оттесненные на неудобные земли, кочевники вынуждены были платить казакам «за перепуск скота своего» на пастбища. И таким образом, покупая у казаков покосы и тебеневки, казахи из полноправных хозяев «обратились... в пришельцев, не имеющих права пользования ни бесплатной распашкой, не сенокошением, ни тебеневками» (25). Положение «прилинейных» казахов ухудшилось еще и потому, что султаны-правители «бесконтрольно правили, грабили и разоряли народ». В этом им помогали дистаночные начальники, купцы и казаки. Крайне тягостное положение казахских трудящихся, находившихся под двойным гнетом, нередко использовалось реакционными султанами и муллами, чтобы разжечь огонь ненависти к русскому населению.
Ф. Лобысевич отмечал, что выборная система правления «сильно подрывала деспотизм, личные выгоды и самое значение султанов, в руках которых до того времени исключительно сосредоточивалась власть и чуть ли не судьбы киргизского народа».
Говоря о судопроизводстве в степи, о сложности системы судов (военный, гражданский и обычного права), Ф. Лобысевич отмечал, что «самый неудачный в степи суд — это суд биев по народным обычаям».