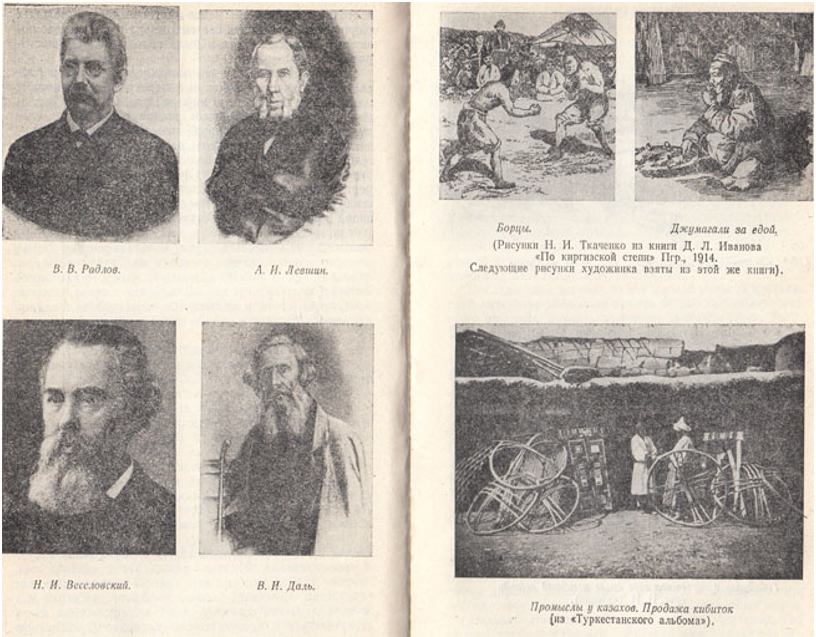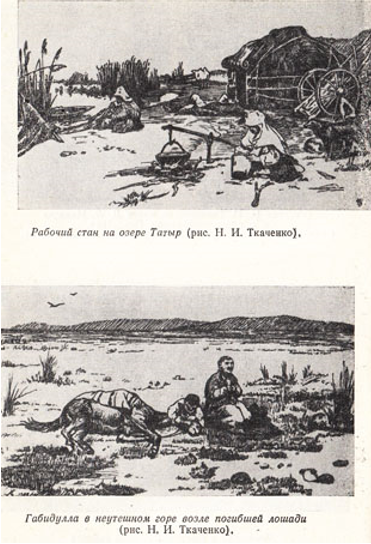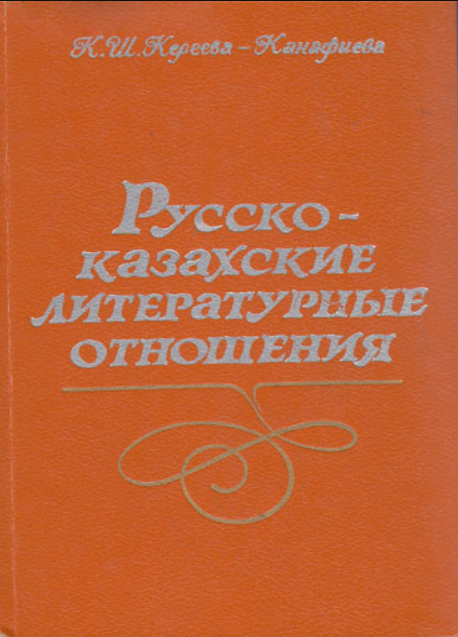Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 21
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Караван уходит все дальше и дальше, а Беркут говорит своей невесте, что теперь он один богатырь на всем свете остался, что все роды, все табуны Назыр-хана теперь его, что «вся степь от неба, до неба»—его степь...
Русский слушатель, «жадно вдыхая аромат степного дыма», продолжает слушать: «Табунам Беркут-хана-
богатыря не было числа... Земле Беркут-хана-богатыря не было меры... Добротой с Беркут-ханом-богатырем мог спорить только Аллах один». Когда он умер, ему насыпали самый большой курган в степи.
И хотя Гребенщиков заканчивает рассказ обращением к богу, который невидим и непостижим, но такой мудрый, однако пафос произведения заключается в гимне казахской степи и мудрости народа, способного хранить в своей памяти чудесные легенды.
Над необозримыми просторами господствовала, как степной царь па троне, гора Кызыл-тас (одноименный рассказ). Она была доступна лишь «сильнокрылому любимцу степных охотников» беркуту (орлу). Молодой охотник Чеке, сын Болекея, сумел достать беркута, от которого не могли уйти ни красная лисица, ни серый волк, ни стая гусей. Но однажды беркут выклюнул глаз охотнику. Вскоре в степь прибыли издалека русские переселенцы, которые поселились у подножия Кызылтаса. Они «сразу... взялись распахивать всю степь». И тогда «Чеке повел жестокую борьбу с чужими, он подбил товарищей устроить баранту и угнать у русских весь табун их рослых вислозадых лошадей. Тут-то русские и вышибли Чеке последний глаз».
Слепой Чеке много лет бродил у подножия Кызылтаса. Он не видел, что вся степь «изрыта плугом и исстегана новыми дорогами». Однажды у горы произошла встреча слепого охотника с больной русской девушкой Ког-кыз («голубая девушка»—прозванная так за цвет платья), приехавшей лечиться кумысом. Она почувствовала тихую жалость к слепому одинокому человеку. Чеке, коверкан русские слова, поведал ей о своей тяжелой доле. Они подружились. Старый слепец рассказывал ей казахские легенды о богатырях и старинные предания о приволье в степи. И каменный утес из красного гранита стал представляться девушке могучим богатырем, несущимся по вольной степи.
Однажды жители деревни убили пять маленьких орлят, а шестого принесли в деревню. Девушка, возможно, под влиянием рассказов Чеке прониклась глубокой жалостью к орленку, вокруг которого собирались толпы подростков и мучили птицу. Она купила орленка и, завернув в плед, принесла свою ношу к Кызыл-тасу, где выпустила на свободу. Сама она здесь же умирает. Слепой старик, услышав тревожный клекот беркутов, догадался, что случилось с больной девушкой.
В рассказе «В тиши степей» Гребенщиков сравнивает степь с полем, покрытым ковром-текеметом. Казахские аулы, расположенные на берегу Иртыша, автору представляются «черною строкой арабской надписи» (91). Подробно описав «приплюснутые к земле» сырые и темные избушки аула с маленькими подслеповатыми окнами, писатель останавливает внимание на отощавших за зиму телятах и лошадях. Старый Коппай, сын которого Мендыбай уехал в город, полон тревоги за его судьбу: вскрылся Иртыш, а в водах его каждую весну тонуло немало смелых джигитов. Коппай, согнувшись и распустив края ушастого и островерхого малахая, прихрамывая, пошагал за скотом. «Редкая седая борода его тряслась, а смуглое изрытое годами лицо кривилось, морщилось от солнца». «Защитив ладонью свои подслеповатые глаза», старик пристально смотрел на восток, откуда должен был приехать сын.
Старый Коппай вспоминает, как прошлое лето русский чиновник каждый день ездил по степи «с железной веревкой» и «хитрой штукой на трех ногах», как он много ругался... Оказалось, чиновник замерял землю под будущий поселок для переселенцев. Вспоминая «обрывки прошлой жизни», Коппай начинал негромко и тягуче петь какую-то «простую песню-жалобу...»
Благополучно возвратился Мендыбай, молодой и рослый джигит. Из города он привез железный плуг. Его соседи по аулу знали, что Мендыбай «всегда что-нибудь знает новое, парень сметливый». Однако жителей аула тревожил слух, что всех казахов «в крестьян обратить хотят» (104). Между тем Мендыбай, копируя голос какого-то городского начальника, говорил: «Не разговаривать! Пахать приучайтесь! Довольно вам жиреть от лени...» (105).
Рассказ интересен не только великолепными этнографическими зарисовками, но и реалистической картиной того нового, что пришло в степь: распространение земледелия среди казахов, появление людей, подобно Менды-баю, тянувшихся к новому. Такие люди, несмотря на молодость, пользуются уважением и почетом среди аульчан.
Примечателен рассказ «На Иртыше», в котором показано волчье лицо кулака из казачьей станицы, расположенной на правом берегу реки. Автор подчеркивает, что «станичникам привольно», что «станица благоденствует» (107).
Старый казак Никита Столяров нещадно эксплуатирует работников-казахов, потому что они «везут, как кони», его большое хозяйство (109). Есть у него и батрачки-казашки (109). На них покрикивает сноха. А когда-то покрикивала, «как атаман», на казахов-ра-ботников его покойная жена. У кулака-мироеда «деньжонки повелись» (109). Стал он казахам в «долг... верить под работу», но требовал «за рубль — стог сена». Если должник не поставлял в срок, долг нарастал вдвое. Это была жестокая кабала. Между тем Никита Столяров считал, что «киргизишки (казахи.— К. К.) работать удалы, терпеливы. Его бьют, а он не крикнет» (109).
Казахи-работники таскали тяжелые гранитные плиты для фундамента, крыльца, дорожек двора большого дома Никиты. Сам хозяин стал настолько паразитом, что «бывало и поругать киргизов за труд считал» (110). Престарелый кулак раз в год ездил со всеми станичниками делить сенокос. Выезжали вместе с ним сыновья, внуки и другие близкие родственники. Против богатых Столяровых открыто боялись выступать беднейшие станичники.
...Во время перехода через Иртыш на пароме Никита заметил бедного казаха Джауке. Это был «черный и сухой» человек, в старом бешмете, с открытой бронзовою грудью. Вместе с ним на пароме были жена и дети. Но всесильный богач избил на глазах у всех несчастного должника, назвав его «собакой», «собачьей головой». Ни просьбы самого «Джауканки» (так кличет его кулак), ни слезы жены, ни плач детей не остановили озверевшего кулака перед расправой. Вот как описана эта сцена: «Кончив бить киргиза, Никита сплюнул и, запыхавшись, похвалился: Я их, собак, не так, бывало, чистил. В аул приедешь сам-друг с нагайкой, перещелкаешь всех до одного, и ни один пикнуть не смеет...— и старик волчьим взглядом снова взбурил на киргиза.— Я те, песья голова, погоди, вот отдохну... Я те шкуру-то спущу» (114).
Однако нагайку кулак пускал в ход не только по отношению к бедному казаху. Никита учил свою многочисленную родню не робеть перед беднейшими станичниками во время дележа сенокоса. Старый волк учил волчат: «Нечего робеть, ребята. А в случае чего — прямо их нагайкой по рылу... Нас много, бить не бойсь, не кинутся» (118). Между тем нашелся смельчак-бедняк Яков Старков, который прямо заявил мироеду: «Хочу поглядеть, как Никита Столяров начнет хватать пайки из горла у других» (119). Отъехав в сторону, Яков прокричал, обращаясь к тому же Никите Столярову: «Горлохват! Куда ты хватаешь: ведь скоро сдохнешь» (119). Взбешенный Никита погнался за Яковом. Но его старый конь не смог перескочить канаву и упал вместе с седоком. Никита умер тут же, на лугу.
В этом небольшом произведении исторически достоверно и художественно убедительно показан образ хищника, нещадно грабившего не только «киргизишек», как он пренебрежительно называл казахов, но и «своих» беднейших станичников, «убедительным» методом обращения с которыми он считал... «нагайкою по рылу».
Совершенно в иной тональности написано эссе «На лыжах». Во время трудного утомительного перехода через горы два человека — один русский (автор.— К. К.), другой казах — не теряют лучшие человеческие качества и проникаются друг к другу чувствами большой дружбы и товарищества. Писатель создает реалистический портрет проводника и «сотоварища» казаха Акпая. Низенький и коренастый тридцатилетний Акпай показан человеком высоких нравственных качеств. Он радуется рассказу своего товарища о том, что в день пасхи «все русские делаются добрыми» (126), и выражает свои чувства восклицаниями: «А, корошя, корошя!... Ета корошя»
(126). Но когда ему сообщают, что «после пасхи опять забывают бога и делаются злыми», Акпай огорчается, говоря: «А, ета кудой, кудой...» (127).
И автор заканчивает свое эссе словами: «И был он (Акпай.— К. К.) мне в это время таким понятным, близким, будто брат родной. И я разговорился с ним, как давно ни с кем не говорил и проговорил до зари» (127). И вопреки кулакам-мироедам типа Никиты Столярова, видевшим в кочевниках лишь безропотных батраков, писатель раскрывает богатый духовный мир простого казаха, способного к восприятию высоких человеческих чувств.
Тяжелой и трагической судьбе казахского труженика посвящен рассказ Гребенщикова «Степные вороны»
(1915). Убогий аул... Старший сын Кракпая Емекей, рослый и угрюмый молодой человек, пятый день лежал без дела в юрте. Он вставал лишь, чтобы поругаться с женой... Ругаясь, Емекей говорил, что они скоро всех баранов поедят, что хлеба в юрте нет, что высохла вся степь и он, молодой и сильный Емекей, не знает, что делать и куда деваться от нужды (91).
К Емекею приходит его друг Мамыр, низенький, широкоплечий и веселый парень. Он рассказывает о своей работе у русских. Мамыр жаловался на притеснения со стороны казаков, шепотком ругал переселенческих чиновников, разъезжавших по степи, высмеивал неповоротливых и бородатых мужиков, питающихся свиньями (92).
Сообщил Мамыр и важную новость — о строительстве железной дороги, которая идет к Иртышу. Строительство дороги как будто открывало перспективы. «Простой человек», говорит Мамыр, денег может много заработать, если будет землю копать, камень возить, лес рубить — всякой работы на строительстве будет много.
Мамыр набирает «артель» из своих аульных товарищей, в числе которых был и Емекей. Одиннадцать джигитов выехали из родного аула в поисках работы. Приехали в Омск, а оттуда на пароходе отправились по Иртышу. Но подходящей работы не было. В одном ауле молодые люди нанялись купцу копать колодец «за семь с полтиною». Но за два дня работы купец дал им «полкирпича чая, пуд черных сухарей».
Не повезло им и на строительстве. Там было много опытных рабочих, привезенных специально из России. Подрядчики воспользовались дешевой рабочей силой казахов, чтобы снизить заработок русским рабочим. Естественно, последние озлобленно смотрели на казахов. Тогда джигиты решили вернуться в аул. Но в родной очаг из 11 ушедших на заработки возвратились лишь двое: остальные умерли или утонули в реке. Погиб и Емекей, переправляясь через Иртыш.
Такова трагическая история жизни одного бедного казахского аула. Подобных аулов было великое множество в степи. В рассказе Гребенщикова нашла правдивое отражение суровая жизнь казахских трудящихся в предреволюционные годы.
Именно с этих позицей подошел Гребенщиков и к переводу поэмы «Киргиз», представляющему собой пример высокого творческого вдохновения русского переводчика. Поэма является не только одним из интересных памятников польско-казахских отношений, возникших в результате пребывания в казахских степях польских патриотов, сосланных царизмом, но представляет и важный факт в истории русско-казахских литературных связей. В предисловии Гребенщиков указывал, что «чуткий и талантливый автор поэмы», польский поэт Густав Зелинский «бурею событий 1831 года» был заброшен в Сибирь, а затем в казахские степи.
Польского поэта вдохновили яркие образы казахов-героев, их звучные мелодии и необъятные просторы степей. Гребенщиков писал, что, «уважая автора и любя с детства знакомую степную жизнь», он сделал все возможное, чтобы сохранить ту верность и колоритность картины, какую он «почувствовал в подлиннике». ...Из неволи, из черного рабства совершает побег юноша-казах. Он был рабом богатого таксыра, жившего «в юртах каменных». Но джигит берег в душе надежду:
Сбросить рабства гнет тяжелый
И на крыльях смелой воли
Улететь в родные степи.
Возможно, что и в душе польского поэта горела ярким пламенем надежда «сбросить рабства гнет тяжелый и на крыльях смелой воли улететь в родные» края...
После тяжелой неволи беглец «жадно пил... степи воздух, ароматом насыщенный». Перед джигитом
...рысцой пробежали
Детства дни невозвратимо:
Шалость детская— прыжками...
И галопом — дни веселья...
Годы ж молодости милой
Мчатся бешеным карьером
И уносят в край неволи,
В черный карай тоски унылой...
Вспомнив «горечь злой неволи», он решает мстить злодею. Но вскоре молодость прогнала тяжелые думы, и джигит запел песню радости-привета Восходу:
Серебристо-нежной нотой
Полилась она из сердца,
Колокольчиком далеким
Зазвенела переливно
И, как жаворонок к небу,
Трепеща, взлетела тихо...
В связи с песней джигита польский поэт восторженно писал о казахских напевах:
О, киргизские напевы,
Сердцу близкие мотивы!
Вы грустны, как степи осень,
И, как гладь небес, раздольны...
Вы стремительны, как стрелы,
Будто месть неотразимы.
Как пожар степной, вы жгучи
И прекрасны, как восходы...
О, когда поет ваш вольный
Сын степей свободной грудью —
Вся природа умолкает,
В сладкой дреме цепенея.
И как будто в том напеве
Плачет степь в тоске по небу...
Между тем юноша мчался все дальше в степь. И хотя он устал и был голоден, но
Он смеялся светлой воле,
С юных лет привыкший к горю,
Он умел сносить невзгоды.
Джигит обладал и «взором соколиным» и «чутко-тонким обонянием». Он не страшится грозы, которая застала его в степи:
Вновь помериться готов он
С силой гроз и мощью бури...
и хотя страшный гром сотрясает степь, а
Дождь рекой обильной хлынул,
Точно в небе прорвалася
Плотина, грозя потопом...
Но без страха пред грозою,
На кургане одиноко,
Неподвижной черной точкой
Конь со всадником стояли!..
Таким образом, в поэме ярко показаны наиболее сильные стороны характера юноши-казаха: его ум и находчивость (удачный побег из плена), свободолюбие и патриотизм, способность видеть далеко и тонко понимать родную природу, мужество и бесстрашие, позволяющие противоборствовать слепой силе стихии, утонченность души и поэтичность натуры... Наконец, беглец добирается до аула, где
У бай-бия в пышной юрте
Все аульцы собирались
И на мягких текеметах Кругом тесным мирно сели..
И аульцы, чтоб приветить,
С гостем ласково толкуют,
Вопрошая о здоровье,
О скоте и о семействе...
Между тем «безмолвно у казана в белых джавлуках хлопочут» женщины. Затем «заботливые катын на агач-аяк проворно из котла кладут палаву...»
И несут уж слуги в юрту
Кумысом турсук налитый
И шипит он белой пеной
На глазах гостей веселых.
Гостя все угощали дружно, а он ел «махан и баурсаки, палву, рис с изюмом, пил сурпу, кумыс ядреный...»
Между молодым джигитом и дочерью бия внезапно вспыхивает любовь. Зелинский рисует поэтический портрет юной девушки-казашки:
Бия дочка кыз— Джамеля,
В полтора десятка с годом,
Так свежа, легка, прекрасна,
Как бутон цветка поутру...
Стройный стан, колебля гибко,
Белой ручкой подпирает,
А другою грациозно
Прядь волос с лица снимает...
А волос — семь кос тяжелых
Отливают блеском черным
И звенят на них монеты,
Что нанизаны богато.
И лучами блещут очи,
Будто угли раскаляясь,
И украдкой на джигита
Смотрят с ласкою ответной.
Интересно отметить, что польский поэт умело пользуется знанием устной казахской поэзии, в которой воспевание подвига героя или красоты девушки всегда сопровождается привлечением для сравнения данных об обширных районах, в которых «никогда» не совершался подобный подвиг или там «никогда не встречалась подобная красавица...»
Мы не будем приводить поэтические строки, посвященные красавице Джамеле. Упомянем лишь, что поэт воспевает любовь степи, где она, «как пламень, в порох павший, в миг объемлет оба сердца бурей страсти». Но любовь джигита омрачена тем, что убийцей его отца оказался бай-бий, гостеприимством которого он пользовался. Он же продал осиротевшего ребенка в рабство. Теперь два чувства борются в джигите: любовь к Джамеле и кровная месть к ее отцу.
Юноша случайно подслушал заговор бия и баксы: они сговаривались убить его. Сцена гадания баксы — одна из впечатляющих в поэме. Баксы играет на кобызе, выхывает дух предков, гадает на кости,— и в конце концов дает коварный совет бию, как избавиться от гостя. Влюбленные, узнав о заговоре, решают бежать. Но злобный бий, преследуя молодых людей, поджигает с трех сторон степь — и в огне степного пожара погибают и джигит и красавица Джамеля:
Как две ивы над прозрачным
Ручейком сплетают ветви,
Так в последнем поцелуе
Обнялись джигит с Джамелей...
Так завершается поэма о любви степных Ромео и Джульетты, родители которых, подобно Монтекки и Ка-пулетти, находились в непримиримой вражде. Кровь отца джигита, убитого во время баранты, не дает покоя юноше, но ее пересиливает всепоглощающая любовь. Любовь сильнее кровной мести. Однако коварный бий губит счастье молодых. На обугленных степных просторах весною вновь расцветут душистые цветы, которые будут оплакивать смерть джигита и Джамели.
В поэме Зелинского много великолепных описаний казахской степи. Пейзаж играет роль не только фона, на котором происходят трагические события, но он непосредственный и активный атрибут, одно из действующих лиц поэмы. Как гостеприимно и широко раскрывает степь свои объятья сыну, бегущему из неволи: даже степные травы прикрывают следы коня джигита! Но предстоит неожиданная встреча героя со злодеем, убившим его отца и продавшим мальчика в рабство,— и природа грозно предупреждает смельчака о предстоящей жестокой и трагической схватке: и удары молнии, и гром небесный, и ливень — все как будто бы пытается остановить и повернуть вспять движение юноши.
Сколько лирики в описании ночного аула! И, наконец, превосходная картина степного пожара, в пламени которого сгорают влюбленные... Но степь в следующую весну вновь пышно расцветает. Продолжается вечная жизнь на земле, несмотря на трагические коллизии между людьми.
Таким образом, поэма «Киргиз» Зелинского привлекла внимание Гребенщикова прежде всего высоким романтизмом, благодаря которому поэма звучит как гимн степи и ее смелым, отважным сынам. Эти мотивы были близки и сердцу русского переводчика, переживавшего распад патриархального уклада степняков как большое несчастье, вследствие которого исчезла, по его мнению, романтика из жизни кочевников. Однако Г. Гребенщиков оказался неправ: неизбежный ход исторических событий привел к необратимым изменениям в жизни казахского народа, вовлек его в русло общечеловеческого развития и цивилизации.
В 10-х годах XX в. русская печать продолжает уделять постоянное внимание различным сторонам общественной и семейной жизни казахов. Некоторые русские авторы отмечают незначительное влияние шариата на жизнь кочевников, объясняя это «безразличным» отношением последних к религии: казахи в большинстве своем не знали даже тех молитв, из которых состоит мусульманский намаз (молитва).
В семейной и общественной жизни казахи руководствовались не шариатом, а адатом, то есть народными обычаями, которые передавались устно из поколения в поколение. Шариат не привился кочевому народу. Между тем адат существовал среди них еще со времен язычества...
В течение первого десятилетия XX в. в печати усилилась критика деятельности царской администрации в казахских степях. Правда, эта критика носила умеренный характер, разоблачая лишь отдельных представителей администрации края. Местная печать обходила молчанием ту социально-экономическую и политическую систему, которая порождала клику администраторов-взяточников. Тем не менее критика даже отдельных сторон существовавшей системы имела определенное позитивное значение, хотя и была половинчатой, односторонней.
В многочисленных в это десятилетие очерках и рассказах, статьях и заметках на казахскую тему их авторы сообщали разнообразную информацию. Однако в основном произведения «малого» жанра затрагивали следующие проблемы: социально-экономическую жизнь трудящихся казахов (положение джатаков, появление переселенцев, проблема землепользования и т. д.), семейные отношения казахов, «новые» реформы правительства по управлению степью, просвещение казахского народа и его будущее и др. Эти произведения внесли определенный вклад в развитие русско-казахских литературных связей.