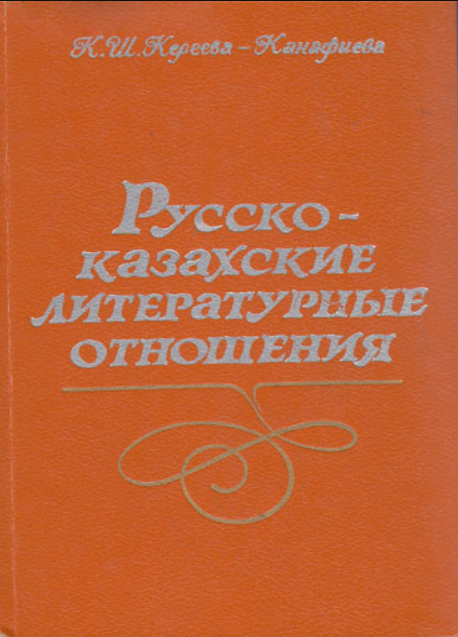Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева — Канафиева – Страница 12
| Название: | Русско-Казахские литературные отношения — К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Автор: | К. Ш. Кереева - Канафиева |
| Жанр: | История |
| Издательство: | Казахстан |
| Год: | 1980 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Мумын безошибочно разбирал и толковал следы в степи. Он поступил на службу к русским давно, когда был еще мальчиком. Обязанности чабара заключались в доставке казенной почты. Кони, одежда и питание были его собственные, а получал он за эту нелегкую службу всего 8 рублей. Только сумка для пакетов была казенная.
Своей многолетней и безупречной службой Мумын заслужил полное доверие. На всякий случай чабар завел себе саблю (клыч), нож у пояса и двухствольное тульское ружье. Его «походная» одежда состояла из белого войлочного головного убора, трех халатов, одетых один поверх другого, а шаровары его были кожаные, сохранившие следы вышивки шелками узора. Сапоги чабара имели острые, загнутые кверху носки и окованные жестью каблуки.
Вот, пожалуй, все детали портрета человека, образ которого создан в рассказе.
Но Мумын не только механический исполнитель служебного долга, а еще и поэт-импровизатор. Когда он едет с почтой, то всегда поет («мурлычит»), «А песня у него какая!—восклицает автор,— что только видит глаз, что только слышит ухо, что ни взбредет зря в голову,— все в эту песню бесконечную, монотонную укладывается». В самом деле, Мумын, по мнению автора, поет так:
Что ты это, серый мой, спотыкаешься?
А ведь это бродят верблюды, каты-магометово...
Козонный пошто вези, давай все коменданту в порядке...
Э...гей, Юлдаш-бай, здорово! Куда едешь, таннаузин...?
Стой, корноухийі Вижу, трет тебе брюхо подпруга.
Сейчас поправлю!
Утки на болото сели, беркут серый ударить на них норовит...
Ого...го...гей!..
Вот так якобы пел Мумын, коротая свой 600-верстный утомительный путь по безлюдной степи. Лишь кое-где встречались пастухи, которые приветствовали одинокого чабара, да мелькали табуны испуганных сайгаков.
Но однажды Мумын встретился в степи с барантача-ми. Чабар думал возвратиться в форт, но боялся пучеглазого, вечно пьяного коменданта, который мог сказать: «Ты, собака ленивая, нарочно так сделал от лени, а не со страха вернулся». Вступив в неравную борьбу с баранта-чами, Мумын убивает одного из них. Чтобы сберечь почту, он зарывает сумку и ящик в песок. И все же Мумын не одолел барантачей, которые жестоко обошлись с ним.
Прошло полтора года. К коменданту форта привели оборванного, больного, исхудалого, заброшенного казаха, сквозь тряпье одежды которого виднелось голое тело. На спине застарелые кровавые рубцы, одного уха у несчастного не было совсем, а другое — до половины обрезано. На руках не хватало пальцев. Несчастный держал ящик и сумку. Это был Мумын. И хотя он рассказал о встрече с барантачами, комендант приказал его наказать. Больше Мумыну не пришлось возить почту. Вскоре он умер. В форте говорили, что Мумын был чудаком, поскольку на себя такую муку принял «из-за дрянной шляпенки да двух банок ваксы» и старых газет, которыми были набиты ящик и сумка чабара (184).
В этом небольшом рассказе все симпатии автора на стороне бедного простого казаха, добросовестно исполнявшего до последней минуты своей жизни служебный долг. Много прочувствованных строчек автор посвятил описанию степного пейзажа, на фоне которого разыгралась трагедия незаметного, маленького казаха-гонца.
В «Среднеазиатских этюдах» Каразина описаны события, связанные с завоеванием Бухарского ханства в 1868 г. Есть в рассказе и эпизоды, посвященные казахам (в частности, автор отмечал, что они «считаются не совсем хорошими мусульманами», стр. 79), особенно казахской женщине, в костлявых пальцах которой проворно шевелится изогнутая игла, а на спине голый ребенок с отвислым животом и полубритой головкой.
Н. Н. Каразин принимал участие в работе Аму-Дарьинской экспедиции, направленной для изучения дельты реки, имеющей важное значение в экономике края. В этот период он близко познакомился с этнографическими особенностями местного населения и создал несколько произведений, посвященных казахам и туркменам. Так, в повести «Тьма непроглядная» казахам посвящена глава «Тигрица», в которой воспеваются привольные казахские степи. Каразин с восторгом пишет о том, что в степи «грудь... свободно и легко дышит чистым воздухом», что «теперь только живете полною жизнью путешественника».
На степной станции происходит неожиданная встреча автора с полковником Назеновым, с которым когда-то начинал службу в Туркестанском крае и пережил трудности совместных походов и боев. А теперь перед ним сидел почти старик. Он поведал о событиях, вызвавших у него трагические переживания.
Экспедиция, в составе которой работал Назенов, однажды в пути встретила караван из нескольких десятков двугорбых верблюдов, навьюченных разобранными кибитками и всякой незатейливой домашней обстановкой казахов. Поверх вьюков сидели женщины и дети. Мужчины, видимо, гнали скот по другим дорогам к месту кочевки аула. На одном из верблюдов сидела молодая женщина, кормившая грудью ребенка и мурлыкавшая какую-то песню, которая так же шла к монотонному шагу верблюда, писал Каразин, «как наша волжская «Дубинушка» к мерному шагу бурлаков, лямошников».
Услышав звон колокольчика экипажа русских, женщина смутилась и стала торопливо укладывать ребенка в одну из висящих сбоку ковровых торб (коржунов). Но ребенок выскользнул у нее из рук и скатился вниз на песок. Однако для малыша все обошлось благополучно, поскольку он был завернут в тряпье и упал на рыхлый песок. Но эта сцена неожиданно сильно подействовала на Назенова, который, «испустив почти нечеловеческий, полный тоски и отчаяния вопль... стремительно выскочил из тарантаса и бросился... к ребенку». Между тем казашка подхватила своего малыша, рассмеялась, показав свои белые зубы.
Когда Назенов вернулся к тарантасу, «на нем не было лица».
Второй подобный случай произошел с ним, когда путники остановились в большом казахском ауле, реалистично описанном Каразиным. В далеко отстоящих друг от друга юртах кипела оживленная жизнь, стихающая днем, во время жары, и разгорающаяся к ночи, когда возвращались пастухи со стадами.
Русских гостей аул встретил гостеприимно. Они остановились в юрте зажиточного казаха, который был польщен тем, что русские предпочли его очаг. Владелец юрты высокий старец с выразительным лицом чисто монгольского типа, с реденькой седой бородкой a la Napoleon. Возле юрты был разостлан ковер, в деревянных чашках принесли кумыс. Гости отказались от барана, которого хозяева готовились прирезать тут же.
Вокруг необычных гостей собралось много аульной детворы. И Назенов «что-то развеселился: он хохотал вместе с детьми, как будто сам стал ребенком; он их брал на руки, ласкал и щедрою рукою раздаривал им свои запасы серебряной монеты» (160). Когда же до гостей дошли звуки плача, то Назенов вздрогнул, а услышав, что умер ребенок, он пошел в юрту, где на войлоке, закрытое с головой куском белой материи, лежало маленькое тело. Вокруг него сидели десятка два женщин, которые причитали, раскачиваясь в такт напева.
Назенов пошел прямо к ребенку и сдернул покрывало. Никто его не остановил, лишь только один казах сказал, что «тюре—хороший человек, он добрый, он зла не хочет». Затем он крепко поцеловал ребенка в лоб и сунул в руки матери какую-то бумажку. Крупная слеза катилась по лицу Назенова: он с трудом сдерживал рыдания. Между тем с разных сторон слышались возгласы: «Урус якши! Урус добрый! Урус сам отец, должно быть!»
Экзальтированная чувствительность Назенова объяснилась значительно позже, когда произошла стычка участников экспедиции с туркменами. Оказалось, что он был женат на туркменке Агрель. Жили молодые супруги под Оренбургом и в Москве, у них был сын. Но Агрель не могла простить Назенову потерю близких и однажды ночью напала на спящего супруга. Погиб в свалке их ребенок, и поэтому Назенов не мог впоследствии спокойно смотреть на детей.
Из цикла «Рождественских рассказов» Каразина определенный интерес представляет казахская поэтическая былина «Черный наездник». Это произведение отличается как формой, так и своеобразным содержанием, изложенным в пяти песнях (главах).
Вокруг центрального героя «былины»— загадочного Черного всадника— группируются другие персонажи: девушка-красавица с необыкновенно длинной косой Узун-Чаш и белокурая девушка с кристально чистой душой Ак-Джан; упрямый богатый бий Хаким и осторожный Аблай-хан; сладкоголосый, добрый и тихий пастух — жених Узун-Чаш. Все они в той или иной степени связаны с Черным всадником.
Основной смысл былины в воспевании романтики жизни обитателей степи, чьи необъятные просторы и приволье создают идеальные условия для проявления лучших сторон человеческого духа: смелости, отваги, бесстрашия, храбрости, рыцарства. Храбрые сыны степи не знают иной власти, как власть седобородых старцев. Естественно, все это воспевается автором, как давно минувшее, безвозвратно канувшее в Лету.
В этом же цикле привлекает внимание небольшой этюд «Писанка», взволнованно повествующий о самоотверженной дружбе между казахским джигитом Малайкой и русским парнем Миколкой. Во время весеннего паводка друзья оказались на противоположных берегах реки, по которой начался ледоход. А джигиту очень хотелось обрадовать своего русского друга яйцом, на скорлупе которого он выцарапал фигуру молодца с ружьем и саблей и петуха. Несмотря на огромный риск, джигит на коне переправился к Миколке. И когда фигура юноши показалась на противоположном берегу, жители Казалинска восторженно приветствовали героя, смело рискнувшего ради друга на столь опасный шаг. О дружбе казаха и русского с удовлетворением и одобрением говорили житель городка. Каразин на обыденном примере показал крепнущие дружеские связи между молодыми поколениями казахов и русских.
В повести «Атлар» (1891) исторические события, действительно имевшие место в 1873 г., когда хивинский хан впервые столкнулся с русскими войсками и потерпел поражение, тонко сплетены с религиозными химерами о «святом» Атлар-Мулле.
Один из советников хана по имени Мат-Нияз в детские годы не только посещал могилу Атлара, слава о подвигах которого прошла по всему свету, но и ночевал на ней. За это мальчик удостоился видения. Оно повторилось в момент разгрома хивинских войск. И тогда советник хана Мат-Нияз умолил своего повелителя заключить с русскими войсками мир, говоря, что «политые кровью мертвые пески оживут цветущими садами». Между тем у хана был и другой влиятельный советник —бывший пленный «авганец» Мат-Мурад, ненавидевший русских и толкавший народ на бессмысленную войну. Впоследствии он был пленен и отправлен в Казалинск, где находился в заключении.
О необычной судьбе однажды плененного персидского мальчика сложена легенда: если переночевать на могиле святого, то переночевавший приобретает необыкновенное богатство или талант, счастье или силу и т. д. У Мат-Ния-за, переночевавшего на могиле «святого» Атлара, появился замечательный талант государственного деятеля, мудреца.
Интересно также упоминание в повести об изображениях на плитках фронтона мазара из жженого кирпича фигур воинов, пеших и конных, сцен охоты и боя, верблюжьих караванов, боевых доспехов, борзых собак и парящих ястребов и орлов (109). Как известно, ислам запрещал изображение людей, животных, птиц, тем более на могильных плитах.
В верстах 12 от мазара Атлара находились кочевья богатого Букеевского рода, но испокон веков «даже сам грозный хивинский хан не посягал на их исстари насиженное право» (110).
В повестях и рассказах, включенных в состав тома под названием «В песках», несколько произведений посвящено казахской теме, в том числе и повесть-легенда «Дауд-караван-баш». Автор указывает, что во время его продолжительного пребывания в Центральной Азии ему не раз приходилось совершать довольно длинные путешествия с торговыми караванами. Во время перехода «чего-чего нельзя было бы наслушаться вволю». Были разговоры политические — о ханах, разных правителях, о самом эмире (речь шла. об эмире Бухарском: караван шел из Бухары). Каразин отмечает, что «азиаты вообще большие любители политических тем — перетолковывая все по-своему, освещая серьезные, часто величественные роковые события своим юмором, доходящим иногда до злой и меткой сатиры. Ведь тут свобода: кругом мертвая пустыня, все свои, подслушать некому, риска никакого» (4).
Рассказывалось о разнообразных дорожных происшествиях, случаях из охотничьей и военной жизни, злых духах, привидениях и т. д. Автор с удивлением констатировал, что «суеверие азиатов развито до крайних пределов— фантастический мир чудес здесь богат, как нигде, давая бесконечный материал для бесед» (5).
Главным героем повести является лауча — верблюдовожатый Дауд. Ленивый, неповоротливый, забитый, заруганный, Даудка-колченогий стал владельцем 7 верблюдов после смерти своего хозяина Джамал-Магомета. Став караван-баши, Даудка «позарился» на товар купца: зарезал его с помощью другого злодея. Но с тех пор «неприкаянным» ходит Даудка, и если его верблюды показываются путникам (миражи)—быть беде.
Творчество Каразина получило в русской печати противоречивые отзывы. Так, анализируя рассказы и очерки Каразина («Ак-Томак», «Богатый купец Бай Мирза Куд-лай»), критик Никитин (1874) отмечал не только внешнюю анекдотическую сторону их, но и сюжетную неправдоподобность, а также упрощенность, примитивизм внутреннего мира героев. Никитин писал: «Художник, способный к анализу человеческой души, одаренный психологическою наблюдательностью, никогда не создал бы такого невозможного характера» (как у Ак-Томак, героини одноименного рассказа).
Критик подчеркивал, что действующие лица рассказов и романов Каразина «представляют собой не целостные человеческие характеры со всем психологическим разнообразием, во всей полноте и последовательности их развития,— нет, в них автор рисует нам только некоторые душевные состояния». Писатель в своих произведениях выступает «как живописец», который на полотне передает «лишь отдельные черты... характеров... преходящие настроения человеческой души, частные эпизоды из ее жизни». Несмотря на «отсутствие творческой фантазии, Каразин оказался большим охотником до драматических эффектов» в своих произведениях.
Е. Гаршин (1888) указывал, что «Каразин, с одинаковою смелостью владеющий кистью, карандашом и пером, на радость себе и нетребовательным читателям» создает слабые в художественном отношении произведения.
Указанные недочеты не снижают, однако, познавательной ценности произведений Н. Н. Каразина. Уже после смерти писателя появились статьи, в которых его считали то русским Густавом Додэ, то Майн Ридом. Отмечалось также, что писатель принадлежал к богато одаренным натурам, что он был чутким художником, талантливым беллетристом и пр.
Д. Н. Логофет (1907), например, отмечал, что горячее солнце Средней Азии, новизна жизни народностей Туркестана, яркое голубое небо способствовали тому, что искра творчества загорелась ярким пламенем в душе чуткого художника и писателя.
В одном из некрологов упоминалось, что писатель Н. Н. Каразин был внуком известного при Александре I общественного деятеля и основателя Харьковского университета В. Н. Каразина, от которого будущий писатель унаследовал пытливый ум и склонность к литературе и искусству.
Как в дореволюционном, так и в советском литературоведении, к сожалению, встречаются работы (например, рукопись Н. П. Кременцова), в которых туркестанские романы Н. Н. Каразина, носящие разоблачительный характер, оценивались как «недостаточно объективные» лишь на том основании, что писатель не показал «огромную работу по введению в крае новой государственности, землеустройства, судопроизводства, статистики, разработки налоговой системы и др».
Кременцов подробно перечисляет положительные результаты деятельности администрации края (издание газет, открытие школ и пр.), а также отдельных лиц (Северцова, Мушкетова, Федченко, Гейнса, Верещагина, Батыршина) и среднеазиатских научных обществ. При этом он указывает также на «непосредственное и активное участие» писателя Каразина, который вместе с Д. Л. и Е. Л. Ивановыми был учредителем «Общества любителей драматического искусства», возникшего в Ташкенте в 1868 г. Здесь они играли в пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись».
В этом и других подобных позитивных примерах, не нашедших отражения в творчестве Каразина, критики склонны были видеть некую необъективность писателя. Если идти по отмеченному пути в оценке творчества Каразина, то, видимо, нужно было бы «критиковать» и Н. В. Гоголя за его бессмертные «Мертвые души», где также не показаны как положительные герои чиновники царской администрации.
Необходимо подчеркнуть, что творчество Н. Н. Каразина, несмотря на отдельные недостатки (отсутствие глубокой психологической характеристики героев; любовь автора к нагромождению событий и усложнению ситуаций с целью вызвать острые ощущения у читателя и т. д.), ценно все-таки тем, что на страницах его романов, повестей, рассказов и очерков запечатлена история первых шагов становления русско-казахских отношений. Каразин принадлежал к числу тех авторов, которые своим творчеством способствовали формированию интереса читающей публики к самобытным сторонам жизни народов Казахстана и Средней Азии. Следуя методу критического реализма, писатель создал вполне убедительные типы первых капиталистических хищников в Туркестане, показал их звериную сущность. Вместе с тем он художественно правдиво показал (роман «С Севера на Юг» и др.) деловые и дружеские отношения, возникшие на почве совместного труда представителей двух народов— русского и казахского. Это создавало условия для их взаимосвязи и взаимообогащения во всех сферах жизни.
Среди первых русских людей, прибывших в Среднюю Азию и Казахстан, было немало прогрессивных деятелей, таких, как Н. Н. Каразин и другие, которые с позиций гуманизма изучали культуру, быт и обычаи коренного населения, старались оказать ему помощь в просвещении, пытались оградить кочевников от произвола царских властей и т. д.
Одна из важных особенностей произведений Каразина заключается в том, что на страницах его романов, повестей, рассказов и очерков выступают представители разных народов: русские, казахи, узбеки, туркмены, киргизы, англичане, евреи и др. Рисуя положительные или отрицательные черты характера того или иного персонажа, Каразин был далек от мысли приписывать их национальным особенностям героя. Вот почему в галерее отрицательных каразинских образов можно встретить капиталистическую акулу Перловича и грабителя мурзу Кадргула. Один приехал из далекого Петербурга, другой— абориген степей.
Вместе с тем писатель создал галерею образов честных и гуманных людей, как Бурченко в «Погоне за наживой», Назенов в «Тьме непроглядной», Касаткин «В камышах» и др. Эти русские люди разделяли боль и радость с местным населением — казахами, а те отвечали им огромным уважением и признательностью.
Замечательной особенностью творческого почерка Каразина являлась его любовь к описанию подробнейших деталей быта казахов, их портретных данных, одежды, головного убора и т. д. Подробно описывались обстановка в юрте, предметы утвари.
Будучи незаурядным художником, Каразин уделял большое внимание точной, яркой, впечатляющей передаче картин степного пейзажа, просторов казахских степей.
Наследие Каразина-художника достойно самостоятельного изучения. Из этого богатого наследия особого внимания заслуживают рисунки, этюды, картины и эскизы, посвященные Казахстану и Средней Азии. В них он запечатлел не только батальные сцены, но и этнографические особенности жизни казахов, узбеков, киргизов и др. Каразин иллюстрировал многочисленные журналы, а также художественные издания «Живописная Россия», где опубликован целый ряд его рисунков из жизни казахов: казахи на молитве; казахские скачки; казахи на телеге, на волах и верблюде; голова старой казашки; табун в казахской степи и др. Собственные литературные произведения писатель также иллюстрировал своими оригинальными рисунками. Так, его книга «От Оренбурга до Ташкента» (Спб., 1886) содержит 26 рисунков автора, большинство которых посвящено казахам (казах на верблюде; казах в шляпе; перекочевка богатого казахского аула; юрта бедного казаха; казах и русский; казах на лошади и т. д.).
В 1874 г. в разделе «Литературная хроника» газеты «Голос» (№ 335) было опубликовано сообщение о выставке акварельных рисунков Н. Н. Каразина, члена сырдарьинской экспедиции. Выставка была организована в помещении Русского географического общества и состояла из трех разделов. Первый посвящался окрестностям Аральского моря и типам казахов, населяющих Приаралье. Внимание привлекала сценка из казалинской уличной жизни «На базаре», в которой достоверно изображены характерные фигуры казаха и казашки, сидящих верхом на лошади и погоняющих небольшое стадо баранов. Зритель как бы ощущал пыль, поднятую бегущими животными, глаза казахов, ослепленных этой пылью. Вся картина представляет собой реальное воплощение кусочка жизни далекой окраины. Типы казахов (кзыл-кумских) показаны и в других разделах выставки.
Рецензент писал, что небольшая выставка рисунков Каразина «как по содержанию, так и по художественному выполнению вполне достигает своей цели»: знакомит русскую публику с незнакомым ей краем.
Н. Н. Каразин был современником многих выдающихся представителей русской культуры. Он состоял в переписке с известными деятелями России, о чем свидетельствуют как архивы самого писателя, так и Д. В. Григоровича, В. А. Мазуркевича, С. Е. Добродеева и собрание В. И. Яковлева, хранящиеся в Пушкинском доме.
Следует также отметитъ, что известные исследователи истории и культуры Туркестана О. В. Маслова, Б. В. Лунин, Г. Н. Чабров, П. И. Данилов, Н. П. Кременцов и другие дали в целом объективную оценку творчеству Н. Н. Каразина, что нашло отражение как в трудах названных ученых, так и в докладах, обсуждавшихся на заседаниях Узбекского филиала Всесоюзного географического общества.
Положительное значение произведений Каразина заключалось в их гуманизме по отношению к беднейшим представителям казахского и узбекского народов. В этих произведениях сохранилось живое дыхание далекой эпохи, эпохи сближения народов Казахстана, Средней Азии и России в рамках единого государства.
Казахской теме посвятил несколько крупных произведений известный в свое время путешественник, дипломат и писатель Н. П. Стремоухов. В его творчестве заметное место занимает трилогия «В Бухару», «Среди басурман» и «Домой из Бухары», которая полностью вышла в свет в 1905 г. Первая книга этого многопланового романа целиком посвящена жизни, быту и нравам казахов. Анализ ее в исследуемом плане, безусловно, представляет определенный интерес.
В книге дано описание долгого, трудного и опасного пути купеческого каравана из Оренбурга в Бухару. Караван вез массу разнообразных товаров (ситец, сукно, кисеи, бархат, чай, сахар, московские конфеты и т. д.), сложенных в обтянутые железом красные, зеленые и синие сундуки со звонкими «музыкальными» замками. Сундуки завертывались в кошмы-войлоки, которые производили казахские женщины. Они же изготовляли и крепкие волосяные веревки: ими обвязывались сундуки.
Владелец товаров оренбургский купец Задеев направил в Бухару Николая Михайловича Гуренева. Караван-баши стал казах Барак. Стремоухов дает следующее портретное описание караван-баши, начиная с ног: «На черные ичиги», одетые в кауши, опускались широчайшие, желтые, кожаные чимбары, на которых красными и синими шелками были вышиты крупные розы. Чимбары были опоясаны поверх пестрого, широкого, с неизмеримо длинными рукавами халата; на кожаном, белом поясе, едва обхватывающем жирное туловище, ...висели два ножа и бритва. Черный, остроконечный, суконный малахай, подбитый и опушенный бараньими шкурками», составлял наряд караван-баши. Первое впечатление о нем складывалось неблагоприятное, однако Барак очень скоро расположил к себе людей добродушием и прямотой, чистосердечной и бесхитростной улыбкой. Вот почему маклер, с помощью которого караван-баши й купец договорились об условиях доставки товаров до Казалы и далее до Бухары, рекомендовал Гуреневу подружиться с Бараком, который и совет может дать дельный и помощь оказать, когда в этом возникнет необходимость. Он говорил также, что казахи «угостительны (т. е. гостеприимны.— К. К.) и любят тех, кто их гостеприимством не гнушается».